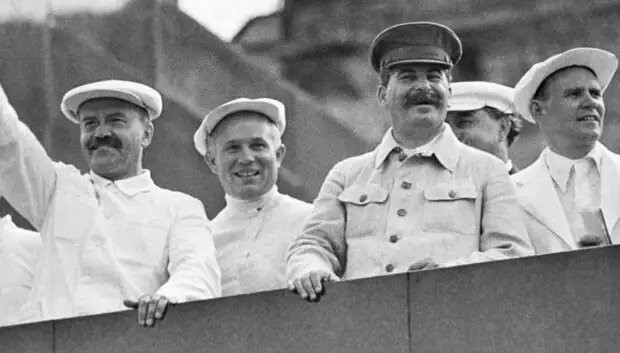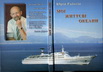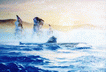–ü–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β
| |
–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ –Η –≤―¹―ë ―¹–≤–Ψ―ë ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α―é –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ–Ι –ü–Α–Φ―è―²–Η –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ―΄, –Ϋ–Β–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –¥–Β–Μ–Α―Ö.

|
|
–û―² –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α
| |
–ü–û–·–Γ–ù–ï–ù–‰–·
–ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η
¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β βÄ™ 2¬Μ
–£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β –Β―¹―²―¨: βÄ€–£–Ψ―² –Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-―ë–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–ΒβÄù.
–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Κ –Ψ ―¹―²–Η–Μ–Β –Η –Ψ―Ä―³–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è.
–£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤–Α―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–¹–Ε–Η–ΚβÄΠ 2¬Μ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄, –Κ–Α–Κ –≤ ―¹―é–Ε–Β―²–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö ―à―²―Ä–Η―Ö–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α―Ö. –û–Ϋ–Η, ―ç―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄, ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –±―΄, ―¹–≤―è–Ζ―É―é―â–Η–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ―¨―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –‰–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η.
–ß–Α―¹―²–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η―é ¬Ϊ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι¬Μ: ―è –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―é –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ ―΅―ë–Φ –Ω–Η―à―É.
–Θ–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Β, ―è –¥–Α―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ―Ä–Η–Ω―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η.
–ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ―¹–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, ―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―É–Ε–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ.
–ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –€–Η–Ϋ–Α–Β–≤: ¬Ϊ–ö–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–Α¬Μ –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ. –Δ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä –î―Ä–Α–Ι–Ζ–Β―Ä –Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ–Η –Η, –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ―é ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ: ¬Ϊ–û―à–Η–±–Κ–Η –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Ι―²–Β, –Ϋ–Ψ ―¹―²–Η–Μ―¨ –Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Ι―²–Β¬Μ. –≠–¥–Η―² –ü–Η–Α―³ βÄ™ –Μ―é–±–Η–Φ–Η―Ü–Α –ü–Α―Ä–Η–Ε–Α, –¥–Α –Η –≤―¹–Β–Ι –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―², –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α ―²–Β–Κ―¹―²―΄ –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ ―¹ –Ψ―Ä―³–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ–ΗβÄΠ
–Θ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –≤ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ–Β¬Μ, –≥–Μ–Α–≤–Α 3, ―¹―²–Η―Ö –Ξ–ΞVIII:
–ö–Α–Κ ―É―¹―² ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―΄―Ö –±–Β–Ζ ―É–Μ―΄–±–Κ–Η,
–ë–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―à–Η–±–Κ–Η
–· ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―΅–Η –Ϋ–Β –Μ―é–±–Μ―é.
 –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ-–Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –£–€–Λ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Η –€–û –Γ–Γ–Γ–† (1989-1991–≥–≥) –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¨–Κ–Ψ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―Ö, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ...―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Β –±–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―é―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–ΑβÄΠ¬Μ
–ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –±―É–¥–Β―² –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ-–Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –£–€–Λ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Η –€–û –Γ–Γ–Γ–† (1989-1991–≥–≥) –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¨–Κ–Ψ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―Ö, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ...―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Β –±–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―é―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–ΑβÄΠ¬Μ
–ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –±―É–¥–Β―² –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹.
P.S. –ù–Α ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Β–Ω–Μ–Η–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤: –Μ–Η–Ϋ–≥–≤–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η ―³–Η–Μ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤,- ―²–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―²―΅–Β–Ι.
–Θ –¥–Β–¥―É―à–Κ–Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–î–Β–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―à―¨―¹―è ―¹–Ω–Α―²―¨, –±–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Κ–Μ–Α–¥–Β―à―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö?¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ ―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Η ―²–Α–Κ, –Η ―ç―²–Α–Κ, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥βÄΠ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ζ–Α―¹–Ϋ―É―²―¨.
–ê –Κ–Α–Κ –±―΄―²―¨ ―¹ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ –≤ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Β?!
–Γ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Μ–Η―²–Β―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤ ―¹–Α–≥–Μ–Α―¹–Η–Ϋ¬Μ. –ù–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β-–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ βÄ™ ¬Ϊ–¥–≤–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―΄¬Μ.
–ü–Ψ–Κ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―é –Μ–Η―à―¨ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄―Ö –±―É–Κ–≤, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–≤ –Η―Ö –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Η–≤ ―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ ―²–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≥―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Φ: ¬Ϊ–Θ―΅―ë–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Η―à―¨!¬Μ
|
|
1. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Β
| |
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –‰.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ (―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –ù–Α―à–Β–Ι –ù–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η). –û–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ, –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é, ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―².–Β. ―è, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ê.–ü., –Β–≥–Ψ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ―è―Ö –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Η―¹–Ω–Η―²–Η―è –≥–Α―É–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―à–Η –Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α, –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―², –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅.
–£–Ψ―² –Η –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η βÄî –±―Ä–Α–≤–Ψ, –Ω–Ψ-―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Η―² ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―Ä―è–¥―É ―¹–Μ–Β–≤–Α. –ù–Α ―³–Ψ―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ê–ü–¦, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Β―²―¨. –î–≤–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ –Ϋ–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Β―ë –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±".
–ù–Α–Ε–Φ–Η―²–Β > –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―Ä―à ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―É ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Β–≥–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ!
–•―ë―¹―²–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Β―â―ë –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤―΄–Φ –Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Δ.–ß. –ê–≥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –‰ ―¹ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―΄–Φ, –±―É–¥―É―â–Η–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ¬Μ –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –†–Α–Κ–Ψ–≤, ―¹―²―Ä–Ψ―è –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –±―É–¥–Β―²–Β ―¹–Β–±―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –≤–Β―¹―²–Η, ―è –≤–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–¥–Α–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α¬Μ. .
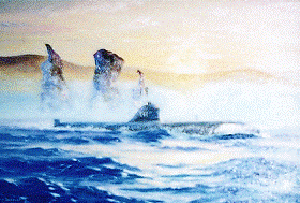 –ï―â―ë –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α ―É –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α. –· –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –û―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –†–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –¦–Β―²–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Μ―¹―è: –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–†–ë¬Μ βÄ™ ―Ä–Β–Ω―¹–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Ψ–±–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ–±–≤―ë–Μ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-3 –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è¬Μ. .
–ï―â―ë –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α ―É –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α. –· –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –û―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –†–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –¦–Β―²–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Μ―¹―è: –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–†–ë¬Μ βÄ™ ―Ä–Β–Ω―¹–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Ψ–±–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ–±–≤―ë–Μ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-3 –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è¬Μ. .
–ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―è ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―à―²–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Α. –‰ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹ –≤ –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄.
–£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Β-–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É―² –≤ ―à–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ, ―è –¥―É–Φ–Α―é, –Ϋ–Η –Ϋ–Α¬§―à–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ê ―΅―²–Ψ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α―Ö, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ―Ä–¥–Α –î–Ε–Ψ―Ä–¥–Ε–Α –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –£ –Ω–Ψ―ç–Φ–Β ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –ß–Α–Ι–Μ―¨–¥-–™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α¬Μ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Α–Φ―É ―¹―É―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –±–Β–Ζ ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Α:
–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Β–Ϋ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β–Ι.
–ü–Ψ–¥ ―¹–Β―²―¨―é –Ζ–¥–Β―¹―¨ βÄî –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–Κ.
–™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Ω―É―à–Κ–Η βÄî –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι!
–û―¹–Η–Ω–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α ―¹–≤–Η―¹―²–Ψ–Κ,
–‰ –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―ç―²–Η–Φ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Ω–Ψ―² –Ϋ–Ψ–≥,
–ö―Ä–Β–Ϋ―è―²―¹―è –Φ–Α―΅―²―΄ –Η ―¹–Κ―Ä–Η–Ω―è―² –Κ–Α–Ϋ–Α―²―΄.
–ê –≤–Ψ―² –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Β―â–Β ―â–Β–Ϋ–Ψ–Κ,
–ù–Ψ –≤ –¥–Β–Μ–Β βÄî ―Ö–≤–Α―² –Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Ζ–Α–≤–Ζ―è―²―΄–Ι,
–ë―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –Η–Μ―¨ ―¹–≤–Η―¹―²–Η―², –≤–Β–¥―è ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²―΄–Ι.
–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η―² ―É―¹―²–Α–≤.
–£–Ψ―² –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―² –±–Ψ―Ä―² ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ,
–¦–Η―à―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤.
–™–¥–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄî –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ.
–û–Ϋ –Μ–Η―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–≤–Η―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α
–‰ ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Η―² ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι ―²–Ψ–Ϋ
–£–Β–¥―¨ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α βÄî –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α
–î–Μ―è ―¹–Μ–Α–≤―΄ –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ.
–ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―Ü―΄ ―Ä–Α–¥―΄ ―΅―²–Η―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Η–Φ –≤ ―²―è–≥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ.
–£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―²–Β–Φ―΄: ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Α –≤ –Η―é–Μ–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é: ¬Ϊ–û―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –£–Α―à–Η ―¹―É–¥–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄, ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―à–Β―¹―²–Η –¥–Ϋ–Β–Ι. –ü–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Φ¬Μ. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –≤ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β βÄ™ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α.
–û –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β-―É–≥–Ψ–Μ―¨―â–Η–Κ–Β ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Β¬Μ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β. –ù–Α –Ϋ―ë–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≤ 50-―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö 3-–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±–Β–Ζ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α, –≤ ―²–Ψ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è ¬ΪPQ-17¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –Κ―Ä―é–Κ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―é―¹―É, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–¥ –Ζ–≤―É–Κ–Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Η–Φ–Ϋ–Α –Γ–Γ–Γ–†, –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ω–Α–Μ―É–± –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ, –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤―É―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―è ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥―Ä―É–Ε–±―É –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ –Ψ–±―â–Η–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ.
–Γ―É–¥―è –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Α, ―ç―²–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β –Η –≤ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α¬Μ. –Γ―²–Η―Ö–Α–Φ –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ.
–£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η ―²–Β–Φ―΄. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –Γ―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―² –Ϋ–Ψ―Ä–Φ –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α.
–†–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β –≤ –≥–Μ–Α–≤–Β ¬Ϊ–£–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨¬Μ.
¬Ϊ–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é 27 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 57 ―¹―²–Α―²―¨―é –Θ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Γ–†, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1960 –≥., ―²–Ψ –±–Η―à―¨, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –½–ê–ö–û–ù, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β –Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ¬Μ.
–ü–Ψ ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Β –≤ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ–Α―Ö –Γ–Γ–Γ–† –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –≥–Ψ–¥ –≥–Η–±–Μ–Ψ –¥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö βÄ™ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η―³―Ä―΄. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ (–Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ–Η), ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, ―²–Α–Κ –Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η.
–· –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε―É –Η–Ζ –ù–Α―à–Β–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Η–Κ―É–Μ–Β–Φ –ß–Β―¹–Φ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤―΄: ¬Ϊ–ê–≤–Α–Ϋ–≥–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™.–ê. –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤. ¬Ϊ–ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ.–ê. –ö–Μ–Ψ–Κ–Α―΅―ë–≤–Α –Φ–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤ ―²―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ¬§–≥–Ψ―Ä–Μ–Α–Ϋ–Η–Μ: βÄ€–ö–Α–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ–≥ –ö–Μ–Ψ–Κ–Α―΅―ë–≤, –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é ―²–Β–±―è: ―²―΄ βÄ™ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹! –ê –Β―¹–Μ–Η –Β―â―ë ―¹–Ω–Μ–Ψ―Ö―É–Β―à―¨, –≤–Β–Μ―é –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―² –≤―΄–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨βÄΠ –ü–Ψ―à―ë–Μ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥ !!!¬Μ.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –ü―É―¹―²―¨ –Η –≤ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Φ–Β―Ä–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Η―è ¬Ϊ–≥–Α―É–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―΅–Α―à–Α¬Μ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –ê―¹–Η–Κ–Α –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –°―Ä―É –®―É–Μ―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V –û–Μ–Β–≥–Α –ï―¹–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ―É –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―é –®–Α–Μ―΄¬§–≥–Η–Ϋ―É. –Ξ–Ψ―²―è –Κ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É ―²–Ψ–Ε–Β –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―Ö–Ψ–¥ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Α –Ϋ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―²: ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β ―²―Ä―É–¥―è―â–Η–Β―¹―è, –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö¬Μ, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤ –Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Μ–Α―²―΄ –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α―Ö –≤ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α―Ö –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α. –½–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ö–Μ–Ψ–±―É―΅–Κ―É¬Μ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –£―¹–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―΅–Α―²―¨―é –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―à–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β: –ê―¹–Η–Κ –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–≤–Α –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ (–Ψ―² –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α –Η –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β. –€–Ψ–Η –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β: –ï―¹–Η–Ϋ βÄ™ –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ 4-–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι: –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ―é ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Ϋ–Β –Η―¹¬§–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨.
–ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ ¬ΪβÄΠ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ―Ä–Α–≤―΄ –Η –Ψ–±―΄―΅–Α–Η –Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ βÄ™ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α―Ä–Α–Φ–Ζ–Η–Ϋ, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ, –Α–≤―²–Ψ―Ä ¬Ϊ–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ.
–Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Φ―Ü–Α –ù–Α―Ü–Η–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Β―², –Ϋ–Β―² –¥–Α, –Η –±–Ψ–Μ―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β―è―Ö –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄. –£ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ βÄ™ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β. –ù–Ψ –±―΄–Μ–Α –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―Ö–Ψ–Ε–Β―¹―²―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ: –≤ ―¹―É–¥―¨–±–Α―Ö ―à–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Α, 27-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β–Μ–Κ–Η―Ä–Κ–Α, –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η―è–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ω―Ä–Α–¥–Β–¥–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –¦―¨–≤–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α.
–ï―¹–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Δ–Ψ–Φ–Α―¹ –Γ―²―Ä–Β–Ι–¥–Η–Ϋ–≥, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ-–≥―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Μ–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–Γ–Η–Ϋ–Κ –Ω–Ψ―Ä―²–Β¬Μ, –≤―΄―¹–Α–¥–Η–Μ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Κ –±―É–Ϋ―²―É –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Ψ–±–Η―²–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Α―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥–Α –Ξ―É–Α–Ϋ-–Λ–Β―Ä–Ϋ–Α–Ϋ–¥–Β―¹, ―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―à–Μ―é–Ω–Α ¬Ϊ–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α¬Μ –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –ê–Μ–Β―É―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―è–¥―΄. –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ¬Ϊ–¥–Ψ―¹―²–Α–Μ¬Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―É–Β–Φ―΄–Φ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –‰–≤–Α–Ϋ–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Α.
–ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Μ–Ψ―Ä–¥–Ψ-–±–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α―³–Α―Ä–Β―²: ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η―² ―É―¹―²–Α–≤¬Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É, –≤ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–ö–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –±―΄–≤–Α–Β―² ―É –Ϋ–Α―¹ βÄ™ –Φ―΄ –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹ ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Ψ―Ä–Β–Φ―¹―è: ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è–Β–Φ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ. –£ ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ–Η, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Η, –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―΄, ―É–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α―é―² ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ω–Ψ―²―É–Ω–Η–≤ –≤–Ζ–Ψ―Ä―΄, –Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ι –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹–Κ–Β. –ü―Ä–Η ―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Μ―é–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Ζ–Φ–Β, –Ω–Ψ―΅–Η―â–Β ¬Ϊ–Κ―É–Μ―¨―²–Α¬Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β –≥–Μ―è–¥―è –Η –Ϋ–Β–Ψ–±–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –Δ–Α–Κ, –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–≤ –Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É: ¬ΪβÄΠ–Ω–Μ―é―¹ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―è¬Μ βÄ™ ―¹–≤–Ψ―é ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ―É―é ¬Ϊ―Ö–Η–Φ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é¬ΜβÄΠ, –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Ψ, –ù–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―Ö ―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―΄, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–Φ–Β―Ä―΄. –£ –Ω–Ψ–¥―à–Η–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –€–Η―²―΅–Β–Μ―è ―¹–Ω–Μ–Α–≤ –±–Α–±–±–Η―²–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω―Ä–Ψ–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―²–Β―Ä―è―²―¨ ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ¬Ϊ–Φ–Η―²―΅–Β–Μ–Β–Ι¬Μ. –ê –¥–Μ―è –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ (¬Ϊ–ö-278¬Μ) –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–Φ–Β―Ä―΄, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ―²–Β―Ä–Φ–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ, –¥–Α, –Ω–Μ―é―¹ –Φ–Α―¹―¹–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ βÄ™ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Ψ–Ι.
–£ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ–Η¬Μ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―¨–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Α –Η–≥–Ψ–Μ–Κ–Η¬Μ –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Α–¥–Η–Η ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η¬Μ. –ê –Ϋ–Α ―²–Β―Ö, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨βÄΠ –ï―¹–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω–Α–Φ ―¹―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ―è–Φ, –Ψ―²–¥―Ä–Α–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Β―¹–Κ–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Β–¥–Β―à―¨. –Γ―²–Α–Μ–Α –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―É: –≤―¹―ë ―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β. –ö―Ä–Α―¹–Η–Μ–Η –≤―¹―ëβÄΠ –Η –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Κ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η –Η –Κ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Φ–Β–¥―¨¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―¹ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –±―΄–Μ–Α –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Β. –ê –Ϋ–Α –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é¬Μ –¥–Α–Ε–Β –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –±–Β–Ζ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―Ä–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Α―è –¥–Β―²–Α–Μ―¨, ―²–Ψ –Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –≤―¹―ë ―΅–Η―¹―²–Ψ –Η ―É–±―Ä–Α–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É: –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, –≤ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Β–Ι ―²―Ä―É–±–Ψ–Κ ―¹―²–Β–Κ–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―¹–Α―² ―¹ –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Φ–Α –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Α –Η ―²―Ä―É–±–Κ–Η –Κ –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ―΄, ―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è –Ω―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–¥―É–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –û―²–¥―Ä–Α–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Φ–Β–¥―è―à–Κ–Η¬Μ –Η –≤―¹―ë –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ζ–Α–±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Ψ.
–ß―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –≤ ―É―â–Β―Ä–± –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α–Φ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: ¬Ϊ–î–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ 15 –Φ–Η–Ϋ―É―²βÄΠ –€–Β–¥―¨ –¥―Ä–Α–Η―²―¨, ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ―É –Φ–Β–Μ–Η―²―¨!¬Μ. –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―é ―¹―É–±–±–Ψ―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Α –¦―É―΅―à–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η.

–£ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η 10-–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Β―ë ―é–±–Η–Μ–Β–Ι –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤ –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ, –Η –¥–Α–Ε–Β –≤―΄–Ϋ–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–¥–Β―è –Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Β ―¹ –£–Η–Ζ–Η―²–Ψ–Φ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –≤ –€–Β–Κ―¹–Η–Κ―É. –ù–Ψ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―ç―²–Α –Ζ–Α―²–Β―è ―¹–Α–Φ–Α –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹―ë –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―à–Η–≤–Α –±–Β–Μ―΄―Ö ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α.
–ï―â―ë ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―à―²―Ä–Η―Ö –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Β―Ä–Β–Ι–¥―è ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –¥–Μ―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ 26 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η ―¹–¥–Α―΅–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –£–Α―à–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α¬Μ. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 26 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α –£–€–Λ. –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Β –Ζ–Α–±―Ä–Β–Μ–Η –Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –‰―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Α –Η –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―à―²–Α–±–Η―¹―²―΄ –£–€–Λ ―¹ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Α―Ö–Α–Μ–Η –Η –Ψ―Ö–Α–Μ–Η: –Η ―²–Α–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²(?!)βÄΠ –‰ –Κ–Α–Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥: –Ϋ–Α –Φ–Β–Ε–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η–Ϋ–Η–Μ–Η, –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Φ―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅―É –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤―É, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –ù–® 2 –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η ―É–Ε–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ –Φ–Β―²–Ψ–¥. –Δ–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Π–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ: ¬Ϊ–û –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α! –û –Ϋ―Ä–Α–≤―΄!¬Μ
–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―é ―¹–Β–±–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α.
–£ –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –‰–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Β –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤–Α –Β―¹―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Β–Β. –ü–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ω–Η―¹–Κ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Η: –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –Ϋ–Η–Ζ–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É–≤―à–Η–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è –ü―²–Ψ–Μ–Β–Φ–Β―è –Ψ –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ―¹―²–Η –½–Β–Φ–Μ–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ψ―² –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―Ä–Α–≤–Β–Μ–Μ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –¥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-―¹–Ψ―²-―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―²―è–Ε―ë–Μ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤. –î–Α, –Η –†–Β–Μ–Η–≥–Η―è –≤ –Β―ë –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –Β–≥–Ψ –‰–Φ–Β–Ϋ–Η. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤ –Ξ―Ä–Α–Φ―΄ –Γ―²―Ä–Α–Ϋ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄, –Φ―΄ –¥–Α―Ä–Η–Φ –‰–Κ–Ψ–Ϋ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ß―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Α βÄ™ –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –‰ –≠–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄ –Β―ë ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β –Η –ü–Ψ–Μ―¨―à–Β, –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥–Β―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –£–Α–Φ, ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Κ–Α–Κ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Η –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Β―ë –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Η, –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨.
–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –ö–Ψ–Μ–Β –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤–Β. –ü–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é―¹―¨: –≤―¹–Β –Η―¹–Ω–Η–≤―à–Η–Β ―²―É –Ζ–Μ–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―É―é ―΅–Α―à―É –±―΄–Μ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 2 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ë–ß-V –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, ―².–Β. ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―²–Β―Ö –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –û–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―²―΅–Η–≤―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ψ ―²–Β―Ö –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η―²–Β–Μ―è―Ö –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Β―²–Β–Μ –≤–Β―¹―¨ –Λ–Μ–Ψ―²: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ¬Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―è –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α―é –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö, –¥–Ψ―¹―É–Ε–Η―Ö ¬Ϊ―ç―¹―¹–Β–≤―΄―Ö¬Μ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ―Ä–Α―¹.
–ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö 99-―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―²―ë–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―É –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Ε–Α–Μ –ê.–ü. –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –û–Ϋ –Ε–Β, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –û–Ϋ, ―².–Β. ―è, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö ―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ë–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―¹ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.
–≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α βÄ™ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ βÄî –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬ΪInterprets¬Μ –Ω–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α: –Ψ―² –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η –¥–Ψ SanβÄ™Diego. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, –Α –Ψ–Ϋ (–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü) –≤―΄―è–≤–Μ―è–Μ –Ϋ–Α―à–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ, ―³–Α–Κ―² –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―è –≤ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Γ–®–ê, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ϋ–Β –Η–Ζ –Α–Μ―¨―²―Ä―É–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Μ―é–±–≤–Η –Κ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Α –≤―΄–±–Η–≤–Α–Μ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Α―¹―¹–Η–≥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α.  –ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ζ–Α ―²―É –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η, –Α ―è –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ.
–ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ζ–Α ―²―É –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η, –Α ―è –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ.
–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β. –ù–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ βÄî –±―É–¥―É―â–Η–Ι –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –€–Ψ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Α―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨!
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β.

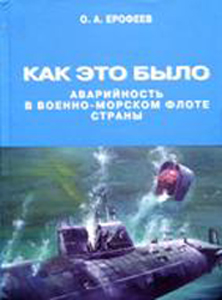
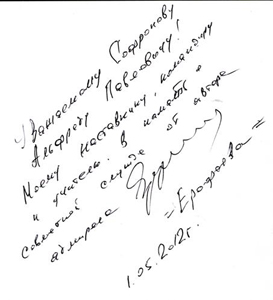
–£–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Α–≤–Α―Ä–Η―è―Ö, –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α―Ö ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ―Ä―É–Κ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α¬Μ. –ê ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²―΄–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä βÄ™ ―²–Α–Φ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―²!!!
–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é 27 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ―É―Ä–Α―²―É―Ä―΄, –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê.–‰.–ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 57 ―¹―²–Α―²―¨―é –Θ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Γ–†, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1960 –≥., ―²–Ψ –±–Η―à―¨, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –½–ê–ö–û–ù, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Γ–Α―à―É –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α: ¬Ϊ–£―¹–Β –Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ?¬Μ, –¥–Β–Μ–Α―è ―É–Ω–Ψ―Ä βÄ™ ¬Ϊ–Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ¬Μ.
–‰, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―Ä–Η―¹–Κ–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η - ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Β –≤ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Β –Ω―É―΅–Κ–Η –Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Ι 380 –≤–Ψ–Μ―¨―² 500 –≥–Β―Ä―Ü –Η –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –≤–Μ–Α–≥–Α –Η –Ω–Α―Ä―΄ –Φ–Α―¹–Μ–Α, ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Α―é―â–Η–Β –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α (―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β―É―¹―΄–Ω–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ) - –≤―¹―è ―ç―²–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η –Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β - 80 ―²―΄―¹―è―΅ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―², –Α –Η―Ö –¥–≤–Α; 40 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α, –Α –Η―Ö –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≥–Α―é―â–Η―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é ―²–Ψ–Μ―â―É –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –‰ –≤―¹―è ―ç―²–Α –Φ–Α―¹―¹–Α, ―Ä–Α–≤–Ϋ–Α―è ―΅–Β―²―΄―Ä–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, –Κ–Α–Κ "–Δ–Α―Ä–Α―¹ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ", –Ϋ–Β―¹–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –ê –Μ―é–¥–Η - –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―΅–≤–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―³–Ψ–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η ―΅–Β―²–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ö –Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –û–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄, ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β –Κ―É―Ä―²–Κ–Η. –ü–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―²–Μ–Α, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η "–≤–Α―Ä―è―²―¹―è" –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Μ–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Η –≤ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι II, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ―É (―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –Β–Β ―¹ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α), –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ: "–ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―²–Ψ–Ω–Ϋ―É―²". –½–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ 28 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦.–™. –û―¹–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ–± ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ë–ß-V –¥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―΄–Φ–Β–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ¬Ϊ–Ψ―²―¹―²–Β–≥–Ϋ―É–Μ¬Μ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –¥–≤―É―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β (–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†―É–Μ―é–Κ). –ß–Β–Φ –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Α–Ε–Β –≤ ―ç―²–Η―Ö, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ-–±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö.
–€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ ―¹ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄. –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Θ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –ö–Ψ–¥–Β–Κ―¹―É.
–‰ –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α –Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ―É –°―Ä–Η―è –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–≤ βÄ™ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α, –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Δ―Ä―É–¥–Α, –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Κ–Ϋ–Η–≥ (–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ –Η ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤) –Ψ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Β–Ι: –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Β–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―²―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―¹―²–Α–≤–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤―΄―Ö ―à―²–Α–±–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―è―΅―É―é ―Ä―É–Κ―É¬Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö–Β. –Γ–Α–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―ç―²–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–Μ―É―΅―à–Β ―Ö–≤–Α―²–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ω–Α–Μ–Κ―É, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²¬Μ.
–ê ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –°―Ä–Η–Β–Φ –ë–Ψ–Ϋ–¥–Ψ―Ä–Β–≤―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―é –Β―â―ë –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ.
 ¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß-5, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β: –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –£–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –±―Ä―é–Κ–Η¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à―É―²–Κ–Α¬Μ. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –±―Ä―é–Κ, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Η―Ö ―É–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η.
¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß-5, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β: –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –£–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –±―Ä―é–Κ–Η¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à―É―²–Κ–Α¬Μ. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –±―Ä―é–Κ, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Η―Ö ―É–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η.
–Θ –£–Α–Μ–Β―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η. –£–Ψ―² –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö:
–Δ―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α! βÄ™
–ë―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–ΗβÄΠ
–Δ―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α! βÄ™
–ü–Η―Ä―¹―΄ –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–Μ–ΗβÄΠ
–î–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β,
–£ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ –Ϋ–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι.
–™–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ
–î–Β―Ä–Ε–Η―² ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι.
–€―΄ –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ
–£―΄―à–Μ–Η –≥―Ä–Α–±–Β–Ε–Α,
–ù–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ
–£―¹―²–Α―²―¨ ―É ―Ä―É–±–Β–Ε–Α.
–ü―É―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è,
–ü–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β:
–€―΄ ―¹–≤–Ψ–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄
–î–Β―Ä–Ε–Η–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Κ–Β.
 –ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö 99-―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―²―ë–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―É –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Ε–Α–Μ –ê.–ü.–Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –û–Ϋ –Ε–Β, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –û–Ϋ, ―².–Β. ―è, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö ―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ë–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―¹ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.
–ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö 99-―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―²―ë–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―É –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Ε–Α–Μ –ê.–ü.–Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –û–Ϋ –Ε–Β, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –û–Ϋ, ―².–Β. ―è, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö ―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ë–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―¹ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.
–£–Ψ―² –Η –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α βÄî ―²–Α –±–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ϋ–Β―ë –Φ―΄ ―¹ –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α ―³–Ψ―²–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä―΄.
 –ù–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η―Ö –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–™–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è?¬Μ –ü–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄ™ –≤ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –™–Β–Ϋ―É–Β. –ù–Ψ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –Ψ―¹–Ω–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Η –ü–Ψ―Ä―²―É–≥–Α–Μ–Η―è, –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è, –Η –¥–Α–Ε–ΒβÄΠ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è. –ê –≤–Ψ―² ―É –£―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ? - ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ: ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ϋ –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ
–ù–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η―Ö –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–™–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è?¬Μ –ü–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄ™ –≤ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –™–Β–Ϋ―É–Β. –ù–Ψ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –Ψ―¹–Ω–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Η –ü–Ψ―Ä―²―É–≥–Α–Μ–Η―è, –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è, –Η –¥–Α–Ε–ΒβÄΠ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è. –ê –≤–Ψ―² ―É –£―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ? - ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ: ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ϋ –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ
 –Γ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Α―è –ö–™–ë, –Ϋ–Η –Γ–ë–Θ –Ϋ–Η–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Η ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Γ–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α, –Η –¥–Α–Ε–Β –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –î―ä―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ–Α –Γ–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―². –€―΄ –Ε–Β, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –ö–Ϋ–Η–≥―É –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α.
–Γ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Α―è –ö–™–ë, –Ϋ–Η –Γ–ë–Θ –Ϋ–Η–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Η ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Γ–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α, –Η –¥–Α–Ε–Β –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –î―ä―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ–Α –Γ–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―². –€―΄ –Ε–Β, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –ö–Ϋ–Η–≥―É –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α.
–ï―¹–Μ–Η –î–Α–Ϋ–Η―ç–Μ―¨ –î–Β―³–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β–Μ–Κ–Η―Ä–Κ–Α –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–Μ –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ¬Ϊ–†–Ψ–±–Η–Ϋ–Ζ–Ψ–Ϋ–Β –ö―Ä―É–Ζ–Ψ¬Μ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≤ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä–Α–Φ–Α―²―É―Ä–≥–Η–Η ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Β –Ψ―² ―É–Φ–Α¬Μ, ―²–Ψ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –ö–Ψ–Μ–Β–Ι –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Β–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–ΒβÄΠ¬Μ. –ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Η –ê–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι.
–‰ –Κ–Α–Κ –≤–Β–Ϋ–Β―Ü βÄ™ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Β –Η –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤―΄.
P.S. 25 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1719 –≥. –£ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–†–Ψ–±–Η–Ϋ–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –ö―Ä―É–Ζ–Ψ¬Μ –î–Α–Ϋ–Η―ç–Μ―è –î–Β―³–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É.
–ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²?!... –€–Ψ–Ε–Β―² –Η –Φ–Ψ–Η ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–ΗβÄΠ¬Μ ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ¬Ϊ–Η–Ζ–±―Ä–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Β–Ω―¹–Η¬Μ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―Ä–Β–Μ–Η–Κ―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄.
–ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –Γ–û–Λ–†–û–ù–û–£
–Γ–Μ–Β–¥―É―è ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―É βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É, –≤ ―΅―ë–Φ –Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
–ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –¥–Ψ 4-5 –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤–Β―Ä―¹–Η–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨βÄΠ –£ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–¥–Η–Η, –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Β–Ι –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ―¹–Κ–≤–Α–Ε–Η–Ϋ―΄ –Η―¹―²–Β–Κ–Α–Β―² –Φ–Α―¹―¹–Α –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è (1 –Α―²–Φ. –Ϋ–Α 1 –Φ–Β―²―Ä ―¹―²–Ψ–Μ–±–Α –≤–Ψ–¥―΄) ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―²―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―è –≤ ―ç–Ω–Η―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –≤ ―ç―²―É ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―ɬΜ, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Ε–Β ―²–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤ –≤–Α–Ϋ–Ϋ–Β ―É –ê―Ä―Ö–Η–Φ–Β–¥–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ, –≥–Ψ–Μ―΄–Ι, –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É ―¹ –Κ―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–≠–≤―Ä–Η–Κ–Α!¬Μ, –Η ―ç―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―²–Ψ–Ϋ―É―²―¨. –ü―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤―¹―ë –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨, –≤ ―΅―ë–Φ –¥–Β–Μ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ ¬ΪSOS¬Μ.
–ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤―¹―ë –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β: –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―É―¹–Ω–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–Α–≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄; –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―Ä―É―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –†―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ―è―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β―² –Ζ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –Η ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Μ–Β–≥–Κ–Α¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ―²―è–Ε–Β–Μ–Α¬Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ψ ―΅―ë–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É –Η ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β―¹―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ―É―é –≤–Α―Ö―²―É, –Α ―ç―²–Ψ βÄ™ ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ
 –£ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –°–≥―É, –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Β–¥―Ä –Ω–Ψ–¥ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
–£ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –°–≥―É, –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Β–¥―Ä –Ω–Ψ–¥ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
–ü―Ä–Α–≤ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–ë.–ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η―Ä―É―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β ¬Ϊ–≥–Α―Ä―Ü―É–Ι¬Μ. –£–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―É–¥–Α―Ä–Η―², –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―è –Ψ―¹―΄–Ω–Μ–Β―²―¹―è, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Ϋ–Η–Β!!!βÄΠ¬Μ –¦–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è: ―à―ë–Μ –Β–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ. –î–Α, –Κ ―¹–Μ–Ψ–≤―É, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 10 –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –£ ―΅–Β―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –°–±–Η–Μ–Β―è –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –™―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ψ–Ι/
–Δ–Α–Κ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ–¥―¹–Ω―É–¥–Ϋ–Ψ, –Η–Ϋ―²―É–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ –Φ–Ψ―ë –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ βÄ™ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―². –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Η ―Ä–Β–≤–Η–Ζ–Η–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ.
–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Η―é –Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ, –Η –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö: ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –¥–Ψ―¹―²―É–Ω –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Η―¹–Κ―É, ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η βÄ™ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Φ, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η βÄ™ ―¹ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ; –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –±–Β–Ζ –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü (–Ϋ–Α –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Κ–Α―Ö) –Η –±–Β–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –‰, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Η ―¹–Ϋ―è―²–Η–Η –Κ–Ψ–Ε―É―Ö–Α ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –¥–≤–Α –Κ―Ä–Β–Ω―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Μ―²–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Β, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―à–Η–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―¹–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄. –ë–Ψ–Μ―²―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ―à–Μ―è–Ω–Κ–Α―Ö¬Μ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―é–≤–Β–Μ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Κ–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ. –ê ―ç―²–Ψ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β–Ι ―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―΄–Φ, ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –‰–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –≤–Ψ―² –≤ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Γ–ß–ê–Γ–Δ–¦–‰–£–û–Γ–Δ–§ happy submarine ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –ù–ê–®–ê –¦–û–î–ö–ê –û–ë–ï–†–ï–™–ê–¦–ê –ù–ê–Γ !!!
–ê –±–Ψ–Μ―²―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ βÄ™ ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –Η –Ψ―Ö–Μ–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è. –ë―΄–≤–Α–Β―² –Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Ι –≤ –Ζ–Α―à–Η―²–Ψ–Ι –Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η –Ζ–Μ–Ψ–Ι ―É–Φ―΄―¹–Β–Μ
 –ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ –Η ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Β―ë –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤ –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β(?!) –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Φ–Ϋ―è –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η (!) –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β. –‰–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨!!!
–ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ –Η ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Β―ë –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤ –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β(?!) –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Φ–Ϋ―è –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η (!) –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β. –‰–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨!!!
|
|
2. –£–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨
| |
–£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤ ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ –Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β―ë –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α: ¬Ϊ–ù–Β―² –Ω―΄–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―΄–Μ―¨ –Ψ―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ.
–ê –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α ¬Ϊ245¬Μ –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Γ.–™. –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Β. –ê –≤―¹―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Η―²–Α –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ–Α–≤–Α–Μ―¨–Κ–Α–¥–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Β–Ι –Η ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β (–Ψ―²–Μ―ë―²) –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Α –≤ –Ω―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ (–Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ) –Ζ–Α–≤–Η―Ö―Ä–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―¹ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–¥–Ψ―Ö–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤―΄–¥–Ψ―Ö–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Ξ―É―É―Ä―Ä―Ä–Ϋ–Ϋ–Α–Α–ΑβÄΠ!!!¬Μ (–Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β―â―ë –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄, –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ-―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α–Φ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Α ―³–Μ–Α–Ϋ–Β–Μ–Β–≤―΄―Ö ―Ä―É–±–Α―Ö–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α¬Μ) –Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―âβÄΠ!¬Μ –≤―¹―è ―ç―²–Α (–Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²) ―ç–Μ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É. –‰ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι ―¹ –Ψ―²–¥–Α―΅–Β–Ι ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ―² ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Γ–ö–†-–Ψ–≤ –¥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α. –Δ–Α–Φ –Ε–Β –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β, –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ –≥–Η―Ä–Μ―è–Ϋ–¥–Α–Φ–Η, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―É –Ω–Μ–Α–≤–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Ϋ―è–Κ¬Μ, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β βÄ™ ―É –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ü–ö–î–Γ-10¬Μ-―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ.
–û–± ―ç―²–Η―Ö ¬Ϊ–Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²―è―Ö¬Μ –Β―â―ë –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ ¬Ϊ–ü–ö–î–Γ-10¬Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α ―Ö–≤–Α―²–Η―² –Η –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É ¬Ϊ–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –≤ ―¹―É–¥―¨–±–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬ΜβÄΠ
–ê –Ω–Ψ–Κ–Α ―è, –Κ–Α–Κ –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η –≤―¹―è, –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É―é ―Ä―É–Κ―É –Ψ―² –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α, –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ ―à–Α–≥–Α ―¹–Ζ–Α–¥–Η: ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è―é, –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ―è―é –Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Ω–Η–Ϋ–Κ–Η. –ü–Ψ –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ―΄¬Μ –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―ç―²–Α–Κ–Ψ–ΒβÄΠ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Μ–Α―¹–Κ–Α―é―â–Β–Β –≤–Ζ–Ψ―Ä –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ψ–± –Α―²–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥―â–Η–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–Δ―Ä–Β―²―¨–Β –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ―¹―²―É–¥–Η–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ (–Α–Κ―²―ë―Ä –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Γ–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤) –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ü–Α―Ä―Ä–Ψ–Ι, –Η–¥―ë―² –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –ê –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η βÄ™ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ (–Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ ¬Ϊ―ç―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α¬Μ) ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―² –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ ―É–≥–Μ–Α–Φ –Η ―²―Ä―é–Φ–Α–Φ. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Β–Κ–Η –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é ((?) - –±―É―²–Β―Ä–±―Ä–Ψ–¥ –Ω–Α–¥–Α–Β―² –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Η–Ζ: –Η–Ζ ―²―Ä―é–Φ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –ö–Ψ–Φ–Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β―΅―²–Ψ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α: ¬Ϊ–Η –≤ –Φ–Α―¹–Μ–Β –Η –≤ ―²–Α–≤–Ψ―²–ΒβÄΠ¬Μ –Η ―¹ –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –±―Ä–Ψ–≤–Η –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―ÄβÄΠ?!¬Μ.
–ù–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, ―¹ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨. –ù–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –±―΄―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―éβÄΠ –Κ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Φ –±―É–¥–Ϋ―è–Φ. –ù–Α―΅–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –±–Ψ―Ä―¨–±–Ψ–Ι ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η βÄ™ ¬Ϊ–Κ–Μ―ë―à–Α–Φ–Η¬Μ. –ö–Α–Κ –Φ―΄, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄, ―ç―²–Η –±―Ä―é–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è–Μ–Η: –≤―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Μ–Η–Ϋ―¨―è, –Ϋ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –±―Ä―é―΅–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―³–Α–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―É―¹–Α, –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―Ö–Η―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Μ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Ϋ–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –‰ ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, ―¹–Β–Φ―¨ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―². –€―΄ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä―é–Κ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ü–Α―Ä–Α–¥–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ 24 –Η―é–Μ―è 1945 –≥–Ψ–¥–Α. –û―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –¥–Α–Ε–Β ―¹–±–Α–≤–Η–Μ ―Ä–Η―²–Φ ―¹–Ψ 120 ―à–Α–≥–Ψ–≤ –≤ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―΅―ë―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–Κ–Μ―ë―à–Α―Ö¬Μ –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Φ–Η–Φ–Ψ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è –¦–ï–ù–‰–ù–ê ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –€―΄, –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Μ―ë―¹―²–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ―Ä–Α–Ι, ―΅―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö, ―¹―²–Η–Μ―è–≥ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α 50-―΄―Ö –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α 60-―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è. –î–Μ―è –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α (–≤―¹―ë –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β βÄ™ –ü–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Α –î―Ä―É–Ζ–Β–Ι).
 –Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β!
–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β!
–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß βÄ™ 5, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β βÄ™ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –£–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –±―Ä―é–Κ–Η¬Μ.
 –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ 90 –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ¬Ϊ–Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, ―à―É―²―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Η–Ζ–¥―ë–≤–Κ–Η, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Η –Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –Ψ–¥–Β–Μ, –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –≤ –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α?¬Μ –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä―é―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€-46¬Μ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ 33 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―΄–≤―à–Β–Ι –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α, –Η ―¹–Μ―΄–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η―Ö ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ¬Ϊ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ 90 –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ¬Ϊ–Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, ―à―É―²―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Η–Ζ–¥―ë–≤–Κ–Η, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Η –Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –Ψ–¥–Β–Μ, –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –≤ –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α?¬Μ –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä―é―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€-46¬Μ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ 33 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―΄–≤―à–Β–Ι –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α, –Η ―¹–Μ―΄–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η―Ö ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ¬Ϊ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η ―é–Ϋ–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Γ–ö–† ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ, –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹―² βÄ™ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Β―²―Ä –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ (―¹ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι) –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, ―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Α ―¹ –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–Φ, ―².–Β. ―¹ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é - ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―²–Β―Ö –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―².
–€–Ψ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è-–Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α–¥–Ψ―É–Φ–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ―² –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹ –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨, ―².–Β. –Ω―Ä–Η–¥–Α―²―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Β –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ–Α¬Μ. –Γ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, ―¹–Ϋ―è–≤ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Κ–Α―¹–Κ–Η, ―à–Μ–Η –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ω–Ψ–¥ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι –Η –≤ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤ –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ψ–±―â–Β–≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤, –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―Ä–Ψ―² –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η –Β―â―ë 20 ―²―΄―¹―è―΅ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –£–Ψ―² –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ω–Μ―é―¹–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Β ―è –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –‰ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―ë–Ϋ –≤–Β―¹―¨, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²―Ä ¬Ϊ–Ϋ–Β―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Β –Κ–Α―Ä―²–Ψ–Ϋ–Κ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Β―ë –≤ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ―É. –ù–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Φ―΄, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―²–Α–Φ: –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ε–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι.
 –û–±―Ä–Α―²–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―É–±–Ψ―Ä―΄ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ê ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β /!!!/βÄΠ ―ç―²–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹―΄ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Κ–Η–≤–Β―Ä–Α –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Β–Ϋ–Α–¥―ë―Ä–Ψ–≤. –Γ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η.
–û–±―Ä–Α―²–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―É–±–Ψ―Ä―΄ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ê ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β /!!!/βÄΠ ―ç―²–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹―΄ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Κ–Η–≤–Β―Ä–Α –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Β–Ϋ–Α–¥―ë―Ä–Ψ–≤. –Γ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η.
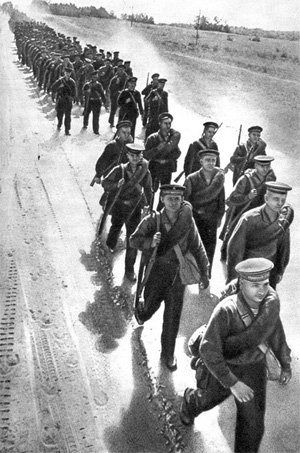 –ê ―ç―²–Ψ βÄ™ –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à–Β. –£–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ (―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ) –Ϋ–Α –Η―Ö –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η.
–ê ―ç―²–Ψ βÄ™ –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à–Β. –£–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ (―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ) –Ϋ–Α –Η―Ö –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η.
–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨! –· –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Β –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ. –‰ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―²―΄―¹―è―΅ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ–Η–Φ–Η ―è –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Η –Γ―²–Α―Ä–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―΅ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―³–Ψ–Ϋ –¥–Μ―è ―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ―ç―¹―¹–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö¬Μ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –¥–Α–Ε–Β, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, ―É–Φ–Ψ–Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ.
–· –Η–¥―É –Κ –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―é: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―΄–Μ–Η, –Β–Ι –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É. –ü―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ (!)
–ê ―²–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ ¬Ϊ–±–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α–Φ–Η¬Μ ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α–Φ ―¹ –Η―Ö ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –±–Β–Ζ –Φ―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―²―¨-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ö–Α–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Φ―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –Ϋ–Α ―³–Α–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ–Η–Ϋ―¨―è.
–‰ –Β―â―ëβÄΠ ―¹ ―΅–Β–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨. –Γ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α–Φ–Η, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―¹ –Η―Ö ―É–Ζ–Β–Μ–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ–Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α ―Ä―É–Κ–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―¹ ―É–Ζ–Μ–Α–Φ–Η-¬Ϊ–Μ–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Ι¬Μ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Κ―É–Μ–Α–Κ.
–‰ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ψ–Κ―É–¥–Ε–Α–≤–Α–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η–Φ–Η: –≤–Β–¥―¨ –Η–Ζ ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η ―ç―²–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –±–Α―Ä–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η –Ψ―² –Η―Ö –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Β–Ι–Μ–Η–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨¬Μ ―²―é―Ä–Β–Φ–Ϋ–Α―è –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α―è –Β–Ι –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α: ¬Ϊ–ê –≥–¥–Β ―²–≤–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²? –î–Α, –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Η–Μ–Η ¬ΪβÄΠ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Ι ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ–Β―΅–Κ–Β ―΅–Η―¹―²–Η–Μ –Κ―Ä–Α–¥–Β–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ¬Μ. –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ¬Μ –±―΄–Μ –ß–ü ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Κ―Ä–Α–¥―É―² ―Ü–Β–Μ―΄–Φ–Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η, –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ–Η, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Α―è ―¹–Μ–Β–¥―΄ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≤―¹―ë–Φ –Ω–Ψ―¹―²―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–≤―É–Κ–Η ―΅–Β–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ϋ–Α¬Μ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, –Ψ–Ϋ –Ε–Β –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–Ζ–Β–Μ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, ―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ―²–Η–≥―Ä–Α¬Μ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ―¹―è –Κ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α. –£–Β–¥―¨ ―ç―³–Η―Ä ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α, –¥–Α, –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β ―É–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Β―² –¥–Β―Ü–Η–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α ―¹ –Β―ë –¥–Β–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Η―΅–Α―â–Η–Φ–Η―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ ―΅―²–Ψ (?!) –Ϋ–Β –¥–Β–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―è –Ω–Β―¹–Ϋ―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Ζ 2-4 ―Ä–Η―³–Φ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –Η 2-3 –Α–Κ–Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–Ψ―²–±–Α―Ä–Α–±–Α―²–Β–Μ–Β–Ι¬Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Α–Ζ–¥–Β―²―΄―Ö –≤ –Φ–Α–Ι–Κ–Α―Ö: ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η!¬Μ. –ü–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Η –≤–Β―Ä―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ βÄ™ –Ω–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Β―â―ë –Ω–Ψ―²–Ϋ–Β–Β –ê –≤―¹―è –Η―Ö –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨―é¬Μ ―¹–Α–Φ–Η―Ö –¥–Η―¹–Κ–Ψ–≤βÄΠ . –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η, –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ–Η –Ζ–≤―É–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Β –Ϋ–Α –™―É–Α–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö.
–ö –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Β –£―΄―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –™–Α―³―² –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Κ –°―Ä–Η―é –£–Η–Ζ–±–Ψ―Ä―É:
–ü–Ψ–Ω―¹–Α –¥―Ä–Ψ–±–Η―² ―à―Ä–Α–Ω–Ϋ–Β–Μ―¨―é –Ϋ–Α―à–Η –¥―É―à–Η
–ï―ë –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅―¨ –Κ ―¹―É–¥―É.
–ß–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―¨―è –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ϋ–Α ―΅―É―à–Η
–‰ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –±―Ä–Β–¥―É.
–û, ¬Ϊ–Γ–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, ―΅―É–¥–Ψ-–Ω–Β―¹–Ϋ―è!
–ö–Α–Κ –Φ―΄ –≤ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β –Ω–Β–Μ–Η ―΅―É–¥–Α–Κ–Η!
–ü―Ä–Η―à–Μ–Α –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α, ―¹―²–Α–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι
–ü–Η―¹–Κ–Μ―è–≤―΄–Β ―É―Ä–Ψ–¥―Ü–Α –Ω–Ψ―à–Μ―è–Κ–ΗβÄΠ
–Γ–Μ–Ψ–≤–Α βÄ™ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ, –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ω–Μ–Η –≤―΄―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è.
–Δ–Ψ―² –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―², –Κ―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤.
–ö―²–Ψ –≤―΄–Ι–¥–Β―² –Ω–Β―²―¨ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ―¨―è,
–ë–Β–Ζ ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, –±–Β–Ζ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α, –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤.
–™–¥–Β –Ω–Β―¹–Ϋ―¨, ―΅―²–Ψ–± ―¹–Ω–Β―²―¨ –Β―ë ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨?
–Γ–Μ–Ψ–≤–Α βÄ™ –≥–¥–Β, ―΅―²–Ψ–± –≤–Ψ –≤–Β–Κ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―²―¨?
–ù―É, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ―Ä–Μ–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ ―²–Β–Μ–Α,
–ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ε–Η―²―¨?
–Γ ―²–Β–Μ–Β―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α,
–î–Μ―è –Ω―É―â–Β–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–≤ ―Ö―Ä–Η–Ω–Ψ―²―Ü―΄
–û–Ϋ–Η –Ω―É–¥–Α–Φ–Η ―¹―΄–Ω–Μ―é―² ―¹–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ϋ―΄,
–ö–Α–Κ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω―É―¹―²―É –Η–Μ–Η –Ψ–≥―É―Ä―Ü―΄.
–£ ―Ö–Α–Μ–Α―²–Η–Κ–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α
–½–Α–Ω–Β–Μ–Α, –Ψ–≥–Ψ–Μ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ,
–ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ. –Γ–Ω–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Φ, –°―Ä–Α,
–û –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Β –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ.
–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ–¥―΄―²–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–· –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―¹―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―ç―², –≤–Α―è―²–Β–Μ―¨, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Β―Ü –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –≤–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –≤–Β―¹―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β, ―²–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ, –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β–Ζ―΄–±–Μ–Β–Φ―΄–Ι –Κ–Ψ–¥–Β–Κ―¹ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α¬Μ.
–û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Β―â―ë –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―à–Β–¥–Β–≤―Ä–Ψ–≤ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ–Ψ-―³–Α–±―Ä–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–≤―΅–Α―² –ê–Μ–Μ―΄ –ü―É–≥–Α―΅―ë–≤–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―é―â–Η―Ö, ―΅―²–Ψ: ¬ΪβÄΠ–Ϋ–Α―à–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ –≤ –Ϋ–Β–±–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Η–Ϋ―É―²―¹―èβÄΠ¬Μ, –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è―Ö ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –î–Β–Μ–Α―é ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―à―²―Ä–Η―Ö–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α (–Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η) ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω–Ψ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Β –ë–Α–≥–¥–Α―¹–Α―Ä―è–Ϋ–Β. –û–Ϋ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ¬Ϊ–ö-66¬Μ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Ψ–Ι, –¥–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β―²–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Κ–Β –Ω―Ä–Η –Β―ë ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Α–Ϋ―΅–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è. ¬Ϊ–Θ–Ω–Α–Μ –Ψ–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–ΨβÄΠ–≤―¹―²–Α–Μ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ¬Μ - –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Ψ―¹―²–Η –ê.–Γ.–™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤–Α –Η –ë–Ψ–≥–¥–Α―Ä–Ψ―¹―è–Ϋ–Β –Β―â―ë –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―Ü–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ―ç–Μ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―É―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É.
–ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Β –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η―Ö –Η –Ω–Ψ–Μ―É ―¹―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤–Ψ―¹―¹–Β–¥–Α–Μ–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ: ―¹–Α–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, –ß–Μ–Β–Ϋ –£–Γ, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –û–±–Κ–Ψ–Φ–Α –ö–ü–Γ–Γ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –Η –Φ―΄ –≤ –Ω–Α―Ä―²–Β―Ä–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι. –¦―é–±–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Α―è –¥–Β―²–Α–Μ―¨ βÄ™ –≤ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–ΒβÄΠ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Β ¬Ϊ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Η―¹―²–Β–Β¬Μ, ―΅–Β–Φ –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η –†–Ψ–±–Β―¹–Ω―¨–Β―Ä–Α, ―΅―²–Ψ –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥―É–±–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ–Β–≥–Η–Η, –Φ―΄ –Β―â―ë –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ. –ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ, ―²–Β–Φ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Μ–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―ç―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ψ―¹–Ψ–±―΄ (!) ―¹ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –Ϋ–Α ―²―É ―¹–Α–Φ―É―é ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―É –¥–Μ―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η―Ö, ―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ζ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ ―²―Ä–Α―³–Α―Ä–Β―² –¥–Μ―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ: ―¹―É―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α, (–Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ), –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Η –Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―É―²–Η –Η –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Ω–Ψ –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η ―΅―ë―²–Κ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Α.
–‰ –≤–Ψ―² ―è, ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Α–≤–Β―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Α―Ä―è―â–Β–Ι –≤ –Ζ–Α–Μ–Β –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Ψ–Ι –Η –Α―É―Ä–Ψ–Ι, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―É –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Β―Ä―É: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –≤ –Φ–Η―Ä–Β, –≤ –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β –≤―¹―ë –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η, ―²–Α–Κ –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β-―²–Α–Κ–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –Κ–Μ–Ψ–Ω―΄ –Η ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ―΄?¬Μ. –‰ ―²―É―² –Ε–Β ―¹–Α–Φ ―¹–Β–±–Β –Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Η–¥―è―â–Β–Φ―É –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ: ¬Ϊ–û–Ϋ–Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Β –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―¹–Α–Φ–Η―Ö ―¹–Β–±―è –Η ―¹–≤–Ψ―ë –Ε–Η–Μ–Η―â–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ–Μ–Β―Ä–Α, ―΅―É–Φ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι¬Μ.
–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Α–±–Ζ–Α―Ü–Α ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε―É –Ψ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β. –ù–Α―à –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –Θ―²―ë―¹–Ψ–≤: ¬Ϊ–£ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―è –Η –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ. –‰ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Η ―É–Φ–Ψ–Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è: ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α –≤ –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –™–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –Η –½–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α―Ä –Η –€–Ϊ, –≤―¹–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Η –±―É–¥―É―â–Η–Β.
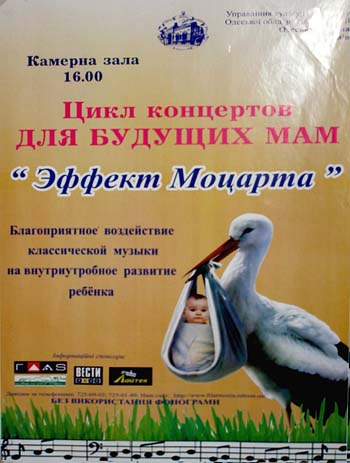 –ü―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β, ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ, –Μ―É―΅―à–Β ―Ä–Α―¹―²―ë―² –Κ―É–Κ―É―Ä―É–Ζ–Α –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄ –¥–Α―é―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à–Μ―è–≥–Β―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―è ―³–Α–±―Ä–Η–Κ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–≤―΄–Κ–Η–¥―΄―à–Β–Ι¬Μ, –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Κ–Μ–Ψ–Ω―΄ –Η ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α―é―² –Ϋ–Η ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Γ–≤–Β―²–Α.
–ü―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β, ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ, –Μ―É―΅―à–Β ―Ä–Α―¹―²―ë―² –Κ―É–Κ―É―Ä―É–Ζ–Α –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄ –¥–Α―é―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à–Μ―è–≥–Β―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―è ―³–Α–±―Ä–Η–Κ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–≤―΄–Κ–Η–¥―΄―à–Β–Ι¬Μ, –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Κ–Μ–Ψ–Ω―΄ –Η ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α―é―² –Ϋ–Η ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Γ–≤–Β―²–Α.
–£―¹―ë –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―ë―²―¹―è.βÄΠ –‰ ―΅–Β―¹―²―¨, –Η ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―΅–Β–Φ ―²―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–±–Η–Μ –Ω―Ä–Η ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ε–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, ―²–Β–Φ ―²―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β ¬Ϊ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι¬Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£―¹―ë ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É!!!
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–Ω–Α–¥–Α―²―¨ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α –≥–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Ψ–≤¬Μ –Η –¥–Α–Ε–Β –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–ΒβÄΠ –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ –°―Ä–Α –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-286¬Μ, –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ –Η –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä, –Ϋ–Β ¬Ϊ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ϋ–Η–Κ¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–Ϋ ―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β, ―²–Ψ –Μ–Η ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α, –≤ –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ–Β ―¹ –≥–Η―²–Α―Ä–Ψ–Ι –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Η –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ ―ç―²–Η –Ω–Ψ–Μ―É –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –ü–Ψ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η ―¹ –°―Ä–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨.
–ù–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η –Κ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ϋ–Α ―²–Β–Φ―É ¬Ϊ–ë–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ ¬Ϊ–Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ψ–Φ¬Μ –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Η –Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ - –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ë–Ψ–Β–≤–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è βÄ™ ―ç―²–Η –¥–≤–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ―΄. –‰ –≤–Ψ―², ―¹ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –Ϋ–Α ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―Ä–Ψ–ΚβÄΠ –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Ψ―² –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ –¥–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤, ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–Ψ –Ω―Ä., –Ω―Ä. ¬Ϊ–Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η¬Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Β―¹―²―¨ –Ω―É―à–Κ–Η, –≤–Ζ–Ψ―Ä–Α–Φ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ϋ―É –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Κ–Η―¹―²–Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α-–±–Α―²–Α–Μ–Η―¹―²–Α –£.–£. –£–Β―Ä–Β―â–Α–≥–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η–Ζ –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ ¬Ϊ–ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β –£–Α―Ä―è–≥–Β¬Μ: ¬Ϊ–™–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Β –Κ –±–Ψ―é –Ψ―Ä―É–¥–Η―è –≤―Ä―è–¥ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Β ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α―è¬Μ. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹―²–≤–Ψ–Μ―΄ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ-–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –≤ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥, –Ψ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β –Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η –Ω―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―΅–Β―Ö–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―΄ –≤–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Α 45 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ―΄ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Β¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β: –Ω―É―à–Β–Κ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β―², ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α. –ê ―É―Ö–Η―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Β. –ü–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –ö–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Α –Η–Ϋ–Ψ–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄: ¬Ϊ–™―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ –Η –Β―¹―²―¨, –Ϋ–Α–¥–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨¬ΜβÄΠ –Η –Ω–Η―à―É―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Α –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ βÄ™ ¬Ϊ–½–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ –£–Α―¹―è!¬Μ. –≠―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω―Ä–Α―â―É―Ä―΄ βÄ™ –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Α―¹–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η. –£ –Ϋ–Α―à–Β –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―ç―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –±–Β–Ζ–Ψ―²–Μ–Α–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―Ä–Ψ–Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―¹–Η–Φ–Η–Μ–Β –Η ―¹–Α–Φ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –≤―΄―¹―à–Β–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β, ―²―É–Α–Μ–Β―² (–Ω–Ψ-―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η βÄ™ –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ), ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β –≠–Ι―³–Β–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η. –ï―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Φ–Α–Ζ–Ϋ―è, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Α―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Α–±–±―Ä–Β–≤–Η–Α―²―É―Ä–Α –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –±―É–Κ–≤βÄΠ ¬Ϊ–î–€–ë¬Μ, ―²–Ψ –±–Η―à―¨ ¬Ϊ–¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è¬Μ, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Β―ë –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–≤―à–Η–Φ –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –±–Ψ–Μ―¨ –≤―¹–Β–Φ―É –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É.
–ù–Ψ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Φ―¹―è ―¹ ―ç–Ι―³–Β–Μ–Β–≤―΄―Ö –≤―΄―¹–Ψ―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Ϋ–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Β―ë –£―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ë-90¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ–û―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤¬Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ. –î–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–ΒβÄΠ –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―â–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ –Η –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ö ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –≥–¥–Β ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ –Η ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è, ―ç―²―É –ü–¦ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤ –û–Κ–Β–Α–Ϋ. –ù–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ¬Ϊ–≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è¬Μ –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-429¬Μ –≤ –±―É―Ö―²–Β –Γ–Α―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β, ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Β–Β –Κ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ¬Ϊ–ß–ü¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α: –≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β, –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –†–Β–¥–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η (–ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-66¬Μ) ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Κ–Η –£–£–î (–≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è) ―¹ –Β―ë –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α. –ê –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–ë-37¬Μ –Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ ―¹–Α–Φ–Η―Ö ―¹―²–Β–Μ–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥βÄΠ . –‰ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ (!!!). –ê–≤―²–Ψ―Ä ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö122¬Μ. –‰ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –€–Α–Ι–¥–Ζ―É―Ä―É ¬Ϊ–≤ –Ζ–Ψ–±―É –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω―ë―Ä–Μ–Ψ¬Μ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―ÉβÄΠ
–û–Ω―è―²―¨ ―è ―¹–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ―É–Μ ―¹ ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Β–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹―¹―É–¥―¨―²–Β! –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤–Ψ –Η–Φ―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η. –ö–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Ω–Ψ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ Jean-Marie Mathey: ¬ΪToujours lu sujet de femmrs¬Μ (–‰―â–Η―²–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É). –Γ–Α–Φ–Α –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Β–Ι –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α –¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–ΙβÄΠ –Μ–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Ψ-―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ, ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ–Μ―É–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Β –≤ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Β –Ω―É―΅–Κ–Η –Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Ι 380 –≤–Ψ–Μ―¨―² 500 –≥–Β―Ä―Ü –Η –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –£–Μ–Α–≥–Α –Η –Ω–Α―Ä―΄ –Φ–Α―¹–Μ–Α, ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Α―é―â–Η–Β –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α (―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β―É―¹―΄–Ω–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ). –£―¹―è ―ç―²–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η –Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β - 40 ―²―΄―¹―è―΅ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―²―΄, –Α –Η―Ö –¥–≤–Α; 97 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α, –Α –Η―Ö –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≥–Α―é―â–Η―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é ―²–Ψ–Μ―â―É –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –‰ –≤―¹―è ―ç―²–Α ¬Ϊ–Φ–Α―Ö–Η–Ϋ–Α¬Μ, ―Ä–Α–≤–Ϋ–Α―è ―΅–Β―²―΄―Ä–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, –Κ–Α–Κ "–Δ–Α―Ä–Α―¹ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ", –Ϋ–Β―¹–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –ê –Μ―é–¥–Η!!!
–û―¹–Ψ–±―΄–Β –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―Ä–Η―¹–Κ–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η - –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―΅–≤–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―³–Ψ–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η ―΅–Β―²–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ö –Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –û–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄, ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β –Κ―É―Ä―²–Κ–Η. –ü–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―²–Μ–Α, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η "–≤–Α―Ä―è―²―¹―è" –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Μ–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Η –≤ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι II, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ―É (―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –Β–Β ―¹ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α), –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ: "–ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―²–Ψ–Ω–Ϋ―É―²". –½–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ 28 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦.–™.–û―¹–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ–± ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V –¥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―΄–Φ–Β–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ "–Ψ―²―¹―²–Β–≥–Ϋ―É–Μ" –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –¥–≤―É―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ (–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†―É–Μ―é–Κ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 15 ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ), ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –ß–Β–Φ –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Α–Ε–Β –≤ ―ç―²–Η―Ö, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ-–±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö.
–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨! –ï―¹–Μ–Η –£―΄ ―ç―²–Ψ―² –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ü–Β–¥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―² –Ω―Ä–Ψ―΅―²―ë―²–Β –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Μ–Α–≤–Α―Ö –Φ–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Β–Κ βÄ™ –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Ι―²–Β―¹―¨ ! –£ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Β –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Α―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Φ –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ω–Ψ–¥ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―Ä–Α–Κ―É―Ä―¹–Ψ–ΦβÄΠ –Η ―¹ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―¹ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ–Φ –Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Β–Ι –£–Α–Μ–Β―Ä―΄ –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ–Α ―è –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―¨–±―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β–Μ–Α―¹―¨, ―²–Ψ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β βÄ™ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨ ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η: ¬ΪβÄΠ –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ¬Μ.
–€–Ψ–Η ―΅–Α―¹―²―΄–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Μ–Α―é―²―¹―è –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β―¹–≤–Β–¥―É―â–Η–Ι, ¬Ϊ―à―²–Α―²―¹–Κ–Η–Ι¬Μ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―²–Α―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ–Ψ―É–Μ–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ―΅–Β―Ä–Ω–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –Α ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –Η –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η. –ü―Ä–Α–≤–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Η –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β ¬Ϊ–€–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ –°―Ä–Η―è –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–≤–Α βÄ™ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€―ç―²―Ä–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Η–Μ―¨–¥–Η–Η. –ü–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é―â–Β–Β ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Κ―¹―²–Α―²–Η¬Μ, –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η―², –Κ–Α–Κ –±―΄, ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Η–Ϋ–Η ―¹―é–Ε–Β―²–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ¬Μ, ―è–≤–Μ―è―é―â–Β–Β –Α–Μ―¨―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Η–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–Φ―É –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ê –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―² ―²–Β–Κ―¹―²―É –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É.
–Ξ–Ψ―΅―É –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–≤–Ψ―é –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Μ–Η –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―² βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–≤–Κ―É―¹¬Μ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–±―ä―è―¹–Ϋ―è―é –Β―ë –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β –Β―â―ë –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β¬Μ –Φ–Ψ–Η –¥–Ψ―²–Ψ―à–Ϋ―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–≤ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ê –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –¹–Ε–Η–Κ?¬Μ. –· –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Μ–Α–Φ–±―É―Ä–Ψ–Φ:
βÄî –•–Ψ―Ä–Α –Ε–Α―Ä―¨ ―Ä–Η–±―É!
βÄî –ê –¥–Β ―Ä–Η–±–Α?
βÄî –Δ―΄ –Ε–Α―Ä―¨, ―Ä–Η–±–Α –±―É–¥–Β―²!¬Μ
–ö–Α–Κ ―²–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ-―΅–Β―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä―É–Ε―¨―ë, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Ψ –≤–Η―¹–Η―² –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Α–Κ―²–Β, ―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―².
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α―é –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β ―è ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η–Μ: ¬Ϊ–‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α―¹―²–Α–Μ–Α ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-―ë–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è¬Μ. –ß―²–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –≥–Μ–Α–≤―΄ –Η –≤―¹–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ.
–‰ –≤–Ψ―² –Φ―΄ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –Κ–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –‰―²–Α–Κ, ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬ΜβÄΠ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –ü–¦ ¬Ϊ–ö –±–Ψ―é –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―ɬΜ, ―².–Β. –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β ¬Ϊ–≤–Β–Ϋ―Ü–Β¬Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –ü–¦ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –ü―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η–≤ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–ù–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, ―¹―É–¥–Ϋ–Β, –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β?!¬Μ
–Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-V –Ψ–±―Ö–Ψ–¥―è―² –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ-―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É¬Μ, –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α–Η–Ζ―É―¹―²―¨ –Ω–Ψ ¬Ϊ–ö–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä¬Μ βÄî ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι. –£ –Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Ϋ–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, –Α ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ.
–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Η –Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α―Ö, –Ϋ–Α –ü–Α–Φ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Α –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ 7 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1981 –≥–Ψ–¥–Α. –‰ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―¨―²–Β –Φ–Ϋ–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β–≥–Ψ–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η. –ù–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―Ö–Ψ―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η–Ζ 16, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤ ―²–Ψ–Φ –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Δ―É-104¬Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –±―΄ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ―É―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –±―΄ ―¹–≤–Ψ―ë –Η –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É¬Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―², ―²–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Η–Ϋ–Α―΅–Β.
–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é 27 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 57 ―¹―²–Α―²―¨―é –Θ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Γ–†, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1960 –≥, ―²–Ψ –±–Η―à―¨, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –½–ê–ö–û–ù. –Γ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α: ¬Ϊ–£―¹–Β –Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ?¬Μ. –ù–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–Γ –Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ζ–Α –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ü–Β–¥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É –≥–Η–±–Β–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Η –≤―΄―¹―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α¬Μ. –î–Μ―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η: –Ζ–Α –≤–Β―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –½–Α –≥–Η–±–Β–Μ―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, –Ϋ–Β ―¹ –Κ–Ψ–≥–Ψ: ―¹–Α–Φ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≠–Φ–Η–Μ―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―ç―²―É ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η―Ö ―É―΅–Α―¹―²―¨.
–î–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β ―¹ ―Ä―É–Κ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Α–Φ―¨―éβÄΠβÄ™ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²―΄, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Η, ―²–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Η–Φ–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Φ–Β―¹―²–Ψ. –Γ―²―Ä–Ψ–Κ–Η –†–Α―¹―É–Μ–Α –™–Α–Φ–Ζ–Α―²–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Η –±―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Κ―¹―²–Α―²–ΗβÄΠ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –£―΄―¹―à–Η–Ι –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –½–Ϋ–Α–Κ –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄ™ –£―²–Ψ―Ä―É―é –½–≤–Β–Ζ–¥―É –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―΅–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Η–Φ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ ―¹–≤–Β―Ä―Ö –Α–Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Θ–Η–Ϋ―¹―²–Ψ–Ϋ –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –ü–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―² –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –Η–Ζ ―Ä―É–Κ –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ-―΅–Β―Ä―΅–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η βÄ™ –≤ –≥―Ä―É–±–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –î–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Φ–Α―Ä―à–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄―²―¨, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.
–Γ–≤–Ψ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―è –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ–¥–Β–≤–Η―΅―¨–Β–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β ―É –ù–Α–¥–≥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Φ–Ϋ―è ―¹ –≥―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é:
–ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α
–€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α
–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ
–™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α
–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α
–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤
–Δ–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è (!) –Φ–Ϋ–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É:
¬Ϊ–£ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –±―΄–Μ–ΨβÄΠ βÄ™ ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–¥–Φ―΄–≤–Α–Β―² –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è ¬Ϊ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α―Ö¬Μ –Η–Ζ –Κ―Ä―É―²–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä–ΑβÄΠ –≠―²–Ψ –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–Κ―¹―²–Α―²–Η –Ω–Ψ―à―É―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β.
–Γ―É–¥―¨–±–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Α –Ψ―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É: –Ψ―² –Β–≥–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥―É―Ä―¹―²–≤–Α. –ï―¹–Μ–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –≤ ―²–Β―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö, ―¹ ―è―Ä–Κ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ 37 –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―É βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Γ–ö–† ¬Ϊ–ë―É―Ä―É–Ϋ¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, ―²–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Γ.–™., –±―É–¥―É―΅–Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ –±–Β–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ, ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Η―Ö ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ. –ß―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹ –ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥–Ψ–Ι. –ï―¹–Μ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι I, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤–Η―¹–Β–Μ–Η―Ü―É, ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―É–≥: ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Η –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–Α!!! –î–Α –Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―é, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –≤ ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α–Μ–Β, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η –Κ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β –¥–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―è –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Α―Ö¬Μ.
–ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―è–Ϋ–Η–Ι, ―²–Ψ –Κ –Φ–Β―¹―²―É –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α –†―è–Ζ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α ¬Ϊ–£ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Ζ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é¬Μ. –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β ―¹–Α–Φ–Η ―É –£.–î.–†―è–Ζ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α.
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ βÄî –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β! –ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-V, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Κ–Μ–Α–¥―ë―² ―Ä―É–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Α―Ö–Ψ–≤–Η–Κ –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Α (–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―ç―²–Η―Ö –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤: –Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ) –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ ―΅―ë―²–Κ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨: ¬Ϊ–½–Α–Κ―Ä―΄―² –Η–Μ–Η –û―²–Κ―Ä―΄―²¬Μ –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-V ―¹–≤–Ψ–Β―é ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―² ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ö–Ψ–≤–Η–Κ–Α, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―² –Ϋ–Α 1\4 –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η–Β. –≠―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η―è –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω―Ä–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Η. –‰ ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–ΒβÄΠ
–ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è, –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α 2008, –Η 9 –≥–Ψ–¥–Α, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Μ―è –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Μ―ë―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –Φ–Α―Ö–Ψ–≤–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ–Η –Η–Ζ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É.
–ù–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α –≤―΄–Ι―²–Η, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Η–Ζ ―²―Ä―é–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ë-90¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹ –Η –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Κ ―¹–≤–Η―²–Β –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é¬Μ, ―².–Β. –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é, –≥–Η–¥―Ä–Α–≤–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι, –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ!¬Μ. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―²―¹―è –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ¬Ϊ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ―΄¬Μ –Η ¬Ϊ―²–Η―³–Ψ–Ϋ–Α¬Μ. –‰ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ―è―é―â–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–ΒβÄΠ –ü–Ψ–¥ –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Δ–Η―³–Ψ–Ϋ–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Η―Ä–Β–Ϋ―΄¬Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä―ë–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –≤―¹–Β –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α: –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―²–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Φ–Κ–Η, –†–î–ü (―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι), –¥–Μ―è –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –†–ö–ü (―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι) –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≤―΄―΅–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–¦–Η―Ä―΄¬Μ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―é―â–Α―è―¹―è ¬Ϊ–‰–≤–Α¬ΜβÄΠ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –ü–¦ –Η –ê–ü–¦. –Γ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è , ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ.
–™–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–≤―É–Κ–Α βÄ™ –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–ë-90¬Μ. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥βÄΠ! –ù–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Β–Ι―¹―è ―à–Α―Ö―²–Β –†–î–ü –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β, –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Β –±―É–Κ–≤―΄ ¬Ϊ–î–€–ë¬Μ. –ß―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–ΨβÄΠ –£ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η βÄΠ –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨: –≤ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ –±–Β–Ζ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü, ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α ―é―²–Β. –‰βÄΠ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Ω―΄, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –Κ–Ψ–≤―Ä–Ψ–≤―΄–Φ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α–Φ–Η. –™–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²―É–Φ–±–Α–Φ–Η ―¹–Ψ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ–Η. –Θ ―²―É–Φ–±―΄ –Η –Ϋ–Α ―é―²–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η ―¹―Ö–Ψ–¥–Β ―¹ ―²―Ä–Α–Ω–Α –Ω–Ψ –¥–≤–Α ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –≤ –±–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ–Α―Ö βÄ™ ―³–Α–Μ―Ä–Β–Ω–Ϋ―΄–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –≤–Ζ–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Β–≥–Ψ ―²―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―³–Α–Μ―Ä–Β–Ω–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Μ–Ψ–Κ–Ψ―²–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ ―²―É–Φ–±―΄, –Α –Ϋ–Α ―é―²–Β ―¹–Ψ–Ι―²–Η ―¹ ―²―Ä–Α–Ω–Α. –‰ ―²–Α–Κ –Ε–Β –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ü–Ψ–Κ–Α –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α ―³–Α–Μ―Ä–Β–Ω–Ϋ―΄―Ö. –· –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Η–Φ: ¬Ϊ–ß–Η―²–Α–Ι―²–Β –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ι –Θ―¹―²–Α–≤ –Η –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ü–Η–Κ―É–Μ―è¬Μ.
–ë–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–Ι!!! –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Η―à―É ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η: ―è –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α. –î–Α, –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ë-90¬Μ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Α―è ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ –Γ–Β–Μ―¨–¥–Β–≤–Ψ–Ι, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ―é, –Κ–Α–Κ –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―². –‰ –Ϋ–Η –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ (!), –Α –≤ –Γ–Α–Ϋ –î–Η–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α –Κ–Α–Μ–Η―³–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –Γ–®–ê.
–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –£―΄ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, –¥–Α –Η ―è ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–≤–Η―²–Ψ–Ι –Η ―¹–Α–Φ–Α ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Α―è –Μ–Η–Ϋ–Η―è –Η –≤―¹―è ―ç―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Α ¬Ϊ–£–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨¬Μ –Ϋ–Β ―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ. –ê –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―³–Ψ–Ϋ –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ ―à―²―Ä–Η―Ö–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –Η―Ö –‰–Φ―ë–Ϋ –Η –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι, –Φ–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Β―Ä―Ö–Ζ–Α–¥–Α―΅–Α. –‰ ―è –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ―É –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―²―¨―¹―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ. –ê ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α, ―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Η –Ψ–± ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Η ―ç―²–Η―Ö –‰–Φ―ë–Ϋ, –Ε–Η–Μ–Η –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η.
–‰ –Β―â–ΒβÄΠ –±–Μ―é―¹―²–Η―²–Β–Μ―è–Φ ¬Ϊ–±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –™―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η–Κ–Η. –£―¹–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹―²–Η ―¹ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ, ―è –Ω–Η―à―É ―¹ –Ζ–Α–≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄. –î–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹―²―è―² –Φ–Β–Ϋ―è ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Η–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Α―²―΄. –Γ―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ε–Β –≤ –Ψ–±–Η―Ö–Ψ–¥–Β βÄ™ –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄. –· –¥―É–Φ–Α―é, –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Ψ –Η –Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ.
–‰―²–Α–Κ, –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²―É ―¹–≤–Η―²―É –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ –¥–Ψ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Κ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–¥–Ψ–±–Ψ-―¹–Ψ―¹―²―΄–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Α–Φ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–û–±―Ä–Α―²–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ ―è –Ω–Η―à―É ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ, ―΅―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ―é―΅–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –¥―Ä―É–≥―É, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â―É, –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Β –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä―É –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²―É –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅―É –≤ –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –±―Ä―΄–Ζ–≥–Η¬Μ.
–†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β ―É –Ϋ–Α―¹: ―è ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α―Ö ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―² –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ. –Θ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Η―¹–Κ―Ä–Η–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Ι –Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ, –Κ–Α–Κ, ―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ–û―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ –Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –Κ–Α―é―²- –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η!¬Μ.
–‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―¹ –±―΄–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ―¹―²―¨―éβÄΠ–ö–Α–Κ ―²–Α–Φ ―É –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ü–Η–Κ―É–Μ―è –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β-―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Β ¬Ϊ–€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥¬Μ: ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ, ―ç―²–Ψ ―à–Κ―É―Ä–Α, ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅―¨. –ï―¹–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä βÄ™ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Η –≤–Μ–Α–¥―΄–Κ–Α –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η: –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―²–Α–Η―²―¹―è: ¬Ϊ–Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²―É―Ä–Α –Κ―Ä―É–≥–Α¬Μ –Β–≥–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä βÄ™ ―ç―²–Ψ ―Ü–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―ë―¹ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β―² ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄, –Α –Β―¹―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –≠―²–Ψ –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –¥–Α–Ε–Β ―²–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ, –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –ù–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –±―΄―²―É–Β―² –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ - ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ βÄ™ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ¬Μ. –Γ―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―². –ï―¹–Μ–Η –≤ –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Β―â―ë –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, ―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ βÄ™ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―², ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ!!! –≠―²–Ψ NONSENSE. –£ –Β–≥–Ψ –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ, ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –±―É–¥―¨―²–Β –¥–Ψ–±―Ä―΄, –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―ë –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ. –≠―²―É ¬Ϊ―²–Η―Ä–Α–¥―É¬Μ –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Β ―è ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–Μ–Η―²–Η–Ζ–¥–Α―²–Α―Ö¬Μ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Ϋ–Α –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –±―É–¥–Β―² –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ü–Α―Ö–Φ―É―²–Ψ–≤–Α –Η –Ω–Ψ―ç―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –î–Ψ–±―Ä–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ–≤¬Μ.
–‰ –≤–Ψ―² –≤―¹–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Ψ―â―¨―é ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―¹–Α¬Μ ―è –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―é―¹―¨ ―¹ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β ¬ΪβÄΠ–±―Ä―΄–Ζ–≥–Η¬Μ (―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ–Η –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β). –™–¥–Β –Ψ–Ϋ ―¹ –≤–Α–Μ―¨―è–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―Ö–Μ―è–±–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² –Ψ ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η¬Μ, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, ―É –Ϋ–Η―Ö –Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Φ¬Μ, –Α –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-V, –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –‰ ―ç―²–Ψ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―É–Β–Φ–Ψ–Β ―¹ ―²―è–Ε―ë–Μ–Β–Ι―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η.. –½–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –Β–≥–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Η –Ζ–Α –Η―Ö –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ-–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ –±―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄ –Ϋ–Β –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Η–Μ. –ê ―²–Α–Κ –Ε–Β –Η –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ-–Κ―É―Ä–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±―É―Ö–Α¬Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ü–¦, –¥–Η―¹–Κ―Ä–Β–¥–Η―²–Η―Ä―É―é―â–Β–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ –Η–Φ―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –î–Α, –Η –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Β ¬Ϊ–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –Ω―ë―Ä–Μ―΄¬Μ, –≤―¹―ë –Η–Ζ ―²–Β―Ö –Ε–Β –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±―Ä―΄–Ζ–≥¬Μ. –ü–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –ù–Α―à–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ψ–Ϋ–Η, ¬Ϊ–±―Ä―΄–Ζ–≥–Η¬Μ, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±―΄ –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–±–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Β–Φ–Η―é –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ. –ê ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―è –¥–Β–Μ–Α―é ―²–Β–±–Β, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, ―²–Α–Κ―É―é –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ―É―é ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ―É!!! –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Β―à–Η –¥–Ψ–Η–Ζ–¥–Α―²―¨ ―²–Η―Ä–Α–Ε–Η ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±―Ä―΄–Ζ–≥¬Μ. –ü–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ―²–Β–Μ―è –Η–Μ–ΗβÄΠ –Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Φ –Β―â―ë (?) –£–Ψ–Μ―¨―²–Β―Ä–Α: ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, ―²―΄ –Φ–Ϋ–Β –¥―Ä―É–≥, –Ϋ–Ψ –‰―¹―²–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β!¬Μ.
–≠―²–Α –≥–Μ–Α–≤–Α –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η, –Β―â―ë –Ω―Ä–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α. –Γ–≤–Β―²–Μ–Α―è –Β–Φ―É –ü–Α–Φ―è―²―¨! –Δ–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―é –≤―¹―ë –±–Β–Ζ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è: –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Β―ë ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö.
–£ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β: ¬Ϊ–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ―Ä–¥–Α –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α: ¬ΪβÄΠ–≤–Β–¥―¨ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α βÄ™ ―É –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Η –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Ι –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ. –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―Ü―΄ ―΅―²―è―² –Β–≥–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –≤ ―²―è–≥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ¬Μ. –£–Ψ―² –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α: ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–≤–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –†–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–≥–Β–Ϋ―²–Α –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –£―΄ ―¹–Β–±―è –±―É–¥–Β―²–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –≤–Β―¹―²–Η, ―²–Ψ ―è –≤–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–¥–Α–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α¬Μ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Β-–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É―² –≤ ―à–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ, ―è –¥―É–Φ–Α―é, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Ϋ–Η –Ϋ–Α¬§―à–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ê ―΅―²–Ψ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α―Ö, ―²–Ψ –≤―΄―à–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ―Ä–¥–Α –î–Ε–Ψ―Ä–¥–Ε–Α –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –£ –Ω–Ψ―ç–Φ–Β βÄ€–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –ß–Α–Ι–Μ―¨–¥ –™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–ΑβÄù –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Α–Φ―É ―¹―É―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –±–Β–Ζ ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Α: ―ç―²–Ψ –Ψ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β. –‰ –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β - –Η–Ζ –ù–Α―à–Β–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Η–Κ―É–Μ–Β–Φ –ß–Β―¹–Φ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤―΄: ¬Ϊ–ê–≤–Α–Ϋ–≥–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™.–ê. –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤. ¬Ϊ–ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ.–ê. –ö–Μ–Ψ–Κ–Α―΅―ë–≤–Α –Φ–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤ ―²―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ¬§–≥–Ψ―Ä–Μ–Α–Ϋ–Η–Μ: ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ–≥ –ö–Μ–Ψ–Κ–Α―΅―ë–≤, –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é ―²–Β–±―è: ―²―΄ βÄ™ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹! –ê –Β―¹–Μ–Η –Β―â―ë ―¹–Ω–Μ–Ψ―Ö―É–Β―à―¨, –≤–Β–Μ―é –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―² –≤―΄–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨βÄΠ –ü–Ψ―à―ë–Μ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥!!!¬Μ
–‰ –Β―â―ë –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―²–Β–Φ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤ 26 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –Φ–Β–Ε –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ―É ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É, –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Ψ–±–≤–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ―ë–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Γ―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–Ι―²–Η –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Β―¹–Α–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι¬Μ ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Ψ–Ι, –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤. –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –£–Α―à–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α¬Μ.
–ê –Κ–Α–Κ –Ε–Β –Β–Φ―É, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤―â–Η–Κ–Ψ–Φ –Β–Φ―É ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–≥–Β–Ϋ―²–Α. –ß―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ψ―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε―ë―¹―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Α–Φ. –Δ–Α–ΚβÄΠ –ï―¹–Μ–Η –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ ―è –≤―΄―à–Α–≥–Η–≤–Α―é –Ω–Ψ –Ω–Η―Ä―¹―É (―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Β–Φ―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –±–Μ–Η–Ζ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ –Η ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β ¬Ϊ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ). –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –≤―΄―à–Α–≥–Η–≤–Α―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –Κ –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―¨–Κ―É ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Η –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―¨―é –Φ–Η–Φ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α, –Κ –Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι, –Ω–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –‰, –Β―¹–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―à–Φ―΄–≥–Ϋ―ë―²¬Μ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, ―²–Ψ ¬Ϊ–≥–Α―É–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è¬Μ –Ψ―²―¹–Η–¥–Κ–Α –Β–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Α.
–½–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Η―¹―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ϋ―¹, –Ω―Ä–Η–≤–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ–Η –≤ –Ψ–±―â–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ –¥–Ψ–Μ–Η –Η –≤―Ä–Α―΅ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ê―¹–Η–Κ –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-V –û–Μ–Β–≥ –ï―¹–Η–Ϋ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ ―è –Η–Φ–Β–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –±–Ψ–Μ―¨ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä –Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ψ―² –ë–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Η. –û–±–Α –Ψ–Ϋ–Η, –Η –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η –ï―¹–Η–Ϋ –Η –≤―¹–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β ¬Ϊ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β¬Μ –±―΄–Μ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –î–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–≤–Α –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι: ¬Ϊ–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α¬Μ - –Ψ―² –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α –Η ¬Ϊ–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α¬Μ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ê ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Κ–Β βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α―΅ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Α―Ä–Η―É–Ω–Ψ–Μ―¨. –ï―¹–Η–Ϋ –Ε–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ 4 –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–•―ë―¹―²–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Β―â―ë –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤―΄–Φ –Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Δ.–ß. –ê–≥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –‰ ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Β―â―ë ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η. –î–Α –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―É –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α ―É―¹–Η–Μ–Η–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ―ë –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ
–ï―â―ë –≤ –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ ―É –î.–ù.–™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α. –· –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –û―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –†–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –¦–Β―²–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Μ―¹―è: –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–†–ë¬Μ βÄ™ ―Ä–Β–Ω―¹–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Ψ–±–Α ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β: ¬Ϊ–Κ―²–Ψ - –Β―¹―²―¨ –Κ―²–Ψ¬Μ, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ–±–≤―ë–Μ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-3 –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: βÄ€–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―èβÄù.
–€–Β―Ä–Η–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β ―Ä–Α―¹―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Α ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ. –£ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤―É –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –‰ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β, ―ç―²–Ψ –Ψ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η –Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –≤―΄―É―΅–Κ–Β –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬ΪInterprets¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Γ–®–ê, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η (–≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η) –Ω–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –· –Ϋ–Β –Ω–Η―²–Α―é –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η–Ι –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Α–Μ―¨―²―Ä―É–Η–Ζ–Φ–Α –≤ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–Ϋ–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –≤―΄–±–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Α―¹―¹–Η–≥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―ç―²–Η ¬Ϊ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ―É –ë–Α–Ϋ―²―É –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι –½–Α –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É¬Μ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Η –Β―â―ë –Η –û―Ä–¥–Β–Ϋ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ: –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Η –Ψ―² –Δ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η.
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―ë –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ―ë–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É ―¹ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ–Μ―é―¹¬Μ, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ―΅―²―É, ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β –Ψ–≤–Ψ―â–Η, ―³―Ä―É–Κ―²―΄ –Η –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨. –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨―é –Β―â―ë ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ. (–≠―²–Ψ ―²–Α–Κ, –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤―΄–±―Ä–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Β–Ω―¹–Η¬Μ, –Β―¹–Μ–Η, –≤–¥―Ä―É–≥ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–¥―ë―² –≤ –Η―Ö ―Ä―É–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―É―²–Α–Μ–Η ―ç―²–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è). –½–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η ―³―É―²–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²―΅, –Ω–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ß–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω―É–Ω–Β –½–Β–Φ–Μ–Η,- –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α–Φ–Η –ë–ß-V –Η –ë–ß-–Μ―é–Κ―¹ (―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β). –î–Α, –Η –¥–Μ―è –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ê―¹–Η–Κ–Α –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ―²–Α–Φ –±―΄–Μ –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ, –Ψ–±–Μ–Α―΅–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –±–Β–Μ―΄–Ι ―Ö–Α–Μ–Α―², –Ζ–Α―à–Η–≤–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Μ–Η–≤–Ψ–Φ―É –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ―É, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η–Φ–Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Α –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Μ―é―΅–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ-–Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β.
–ü―Ä–Η–±―΄–≤ –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –≤ 15 –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä―ÉβÄΠ, –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Α –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Η–Μ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –¥–Α –Η –Ϋ–Β –Ω―É―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Β―ë –Ε–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―ë–Φ―É, –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ζ–Α–Ω―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Β–Ι―à–Η―Ö –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –±―É―Ö―² - ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Ε–Ψ–≤―É―é¬Μ. –û ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β –Η –Ψ –Β―ë –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α―Ö –Β―â―ë –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Ζ–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ―É, ―΅―²–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η –Η –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –û–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –¥―É―à, –±–Μ–Α–≥–Ψ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β βÄ™ ¬Ϊ–≤–Ψ–¥―΄ –Ζ–Α–Μ–Β–Ι―¹―è¬Μ. –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―è―Ö, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ–Μ―΄–Ι, –Ζ–Α–Κ―É―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―¨, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Α―²―Ä–Η―Ü–Η―é, –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Η–Ζ –¥―É―à–Β–≤–Ψ–Ι –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ―¹―² –Κ ¬Ϊ–Κ–Α―à―²–Α–Ϋ―É¬Μ βÄ™ (―¹–Β–Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―¹–≤―è–Ζ―¨), –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–Α–Κ―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―¹βÄΠβÄΠ!¬Μ
–£–Ψ―² –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι―²–Η–Ϋ–≥–Β –Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―à –Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ―Ä–¥ –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, ―Ö–Ψ―²―¨ –Φ―΄ –Η –Ϋ–Β –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―Ü―΄, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –±―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α.
–î–Α, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―è –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―é –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―É―Ö–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Β ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ―É―é ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é: ¬Ϊ–û―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –£–Α―à–Η ―¹―É–¥–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄, ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―à–Β―¹―²–Η –¥–Ϋ–Β–Ι. –ü–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Φ¬Μ.
–ü–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α―é ―΅―²–Ψ –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η ―É –Μ–Ψ―Ä–¥–Α –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α. –ù–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α¬Μ –Ω–Ψ–Φ–Β―â―ë–Ϋ –±–Α―Ä–Β–Μ―¨–Β―³ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –ö–Α–Κ –Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Α, –û―Ä–¥–Β–Ϋ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –½–≤–Β–Ζ–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –≠―²–Η –Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –ù–Α―à–Β–Ι –û–¥–Β―¹―¹―΄ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Α–Φ 41 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥-–™–Β―Ä–Ψ–Ι.
–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Κ―ÉβÄΠ
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―²―΅―ë―²–Ϋ–Ψ-–≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ (―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –ù–Α―à–Β–Ι –ù–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η). –‰ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ, –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é, ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –‰ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―².–Β. ―è, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Β–≥–Ψ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ―è―Ö –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Η―¹–Ω–Η―²–Η―è –≥–Α―É–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―à–Η –Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―², –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –£ –Β–≥–Ψ –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –‰–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Β –Β―¹―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Β–Β. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―è, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–Λ–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä¬Μ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Β¬Μ.
–‰―²–Α–Κ, –Ψ ―²–Β―Ö –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η―²–Β–Μ―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤–Α, ―É–Ε–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 2 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ë–ß-V. –£–Β―¹―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Η―Ö –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η―²–Β–Μ―è―Ö –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―΅–Α―¹―¨–Β –Ψ–±–Μ–Β―²–Β–Μ–Α –Η –Ψ –Η―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Μ―é–¥, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι, –ë–ß-–Μ―é–Κ―¹.
–™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Η –≤–Β–¥―É―² –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η 627 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ¬Ϊ–ö-3¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–Φ¬Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –‰ –≤–Ψ―², –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è II –Ψ―²―¹–Β–Κ, –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ. –ü―Ä–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ψ–Ϋ –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ –±–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ―ë ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥ –Η ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥. –ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η–Ζ –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Α. –î–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β –Φ―΄ –±―΄–≤–Α–Β–Φ, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ω–Α–¥–Κ–Η–Φ–Η –¥–Ψ ―ç–Κ–Ζ–Ψ―²–Η–Κ–Η ! –‰ ―Ä–Α―¹―²–Ψ―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ω–Η―²―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α–Ι ―¹ –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Κ―É―¹–Ψ–Φ –Η –±–Β–Ζ –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α. –Δ–Α–Κ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –¥―É–Φ–Α–Μ–Α –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Α―è ¬Ϊ–±―Ä–Α―²–Η―è¬Μ –Ω–Ψ―Ä―΄ ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ–Η. –ê –Ω―Ä–Η –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β, –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―Ü–Η–¥, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Ι –¥–Μ―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Η–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η ―¹–Α–Φ–Α –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É–Β–Φ –Ζ–Α –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–ΒβÄΠ –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –•–Η–Μ―¨―Ü–Ψ–≤ –¦.–€., –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η. –‰ ―²–Α–Κ –¥–Ψ VII, –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤, –¥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–ΨβÄΠ –‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨βÄΠ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤―¹―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Β–Ι –Α―²―Ä–Η–±―É―²–Η–Κ–Α: - ―ç―²–Ψ ―¹–Η–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―â–Η―²―΄ ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―¹―²–Α–≤–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Φ–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–±–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ–Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö –¥–Ψ –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –±―É―²―΄–Μ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-―à–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, –Ψ―² –Ω–Ψ–Μ―É –¥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É―΅–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Α―²–Β–Μ–Η, –Φ–Α―Ö–Ψ–≤–Η–Κ–Η ―Ä–Β–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―ë―Ä―΄, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ―΄–Β, –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Ω―É―¹–Κ–Α―²–Β–Μ–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Α―Ö¬Μ –Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Α―Ö¬Μ. –£ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–ΦβÄΠ –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―Ä―è–¥ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Μ–Β–Ζ–≤–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –¥–Μ―è –¥–Η―¹–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η ―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Η. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤–Η―Ä―²―É–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ε–Ψ–Ϋ–≥–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η¬Μ –Η–Φ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Η, –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²―΄ –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–Ϋ―²–Α–Φ! –ù–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ ―΅–Β―Ö–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ü–Κ–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ë–Β–Κ-–ö–Α–Ω–Ω¬Μ, –≥–¥–Β –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Η―Ä–Α―²-―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ ―¹ –Ω–Ψ–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Κ–Ψ―¹―΄–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ω–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–≤–Β―Ä―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è.
–ù–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Η―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α, –±―΄–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–€–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―¹―²¬Μ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α 20-―Ö –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α 30 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤. –ü–Ψ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―É: –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –¥–≤–Β―Ä–Β–Ι –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ, II –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –≥–¥–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Η ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―à–Α―Ä–Ϋ–Η―Ä–Α―Ö ¬Ϊ―²―É–¥–Α-―¹―é–¥–Α¬Μ, –Κ–Α–Κ –≤ –Ω–Η―²–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Μ―É–Ϋ–Α―Ö –î–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –½–Α–Ω–Α–¥–Α –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤. –ü―Ä–Η –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η βÄ™ –≤―¹―ë ¬Ϊ–Μ–Β―²–Β–Μ–Ψ¬Μ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –¥―Ä―É–≥―É―é, –Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≤–Η―¹–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―Ä―É–±–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α―Ö –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α―Ö.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –•–Η–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ―É―é –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η βÄ™ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ ―Ä―É–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Κ–Α¬Μ. –ï–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Α –Ε–Β–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Φ–Ψ―è –Φ–Α–Φ–Α, –î–Ψ–Φ–Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Κ―É–¥―Ä―è―à–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –‰ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² ―ç―²–Ψ―² ―É–Ε–Β ¬Ϊ–±–Β–Ζ–Κ―É–¥―Ä―è―à–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö ―è―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ βÄ™ –Κ–Ψ–Ι–Κ–Ψ–≤–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Β―É―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ 51 –Θ–û–ü–ü`–Β (–Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α ―É–Ε–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ù.–ê.–•–Η–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Β–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι!!!
–ù–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –≠.–ê.–ö–Ψ–≤–Α–Μ―ë–≤–Α ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―΅–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–Μ–Β―²–Ψ–≤¬Μ (–Ξ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è 1918-1941 –≥–≥.) ―¹–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –•–Η–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –î–Α, –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö (–£–û–¦–Γ–û–ö) –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Η―³–Β–Η ¬Ϊ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ –¦–Ψ–Ϋ―Ü―΄―Ö –Η –î–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ. –ê –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Ζ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η.
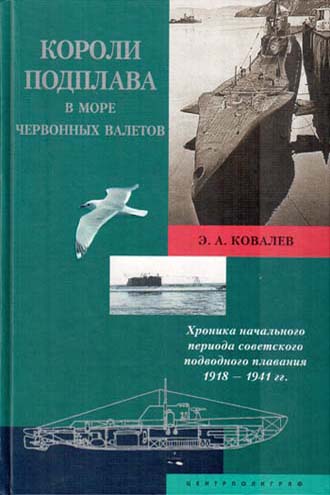 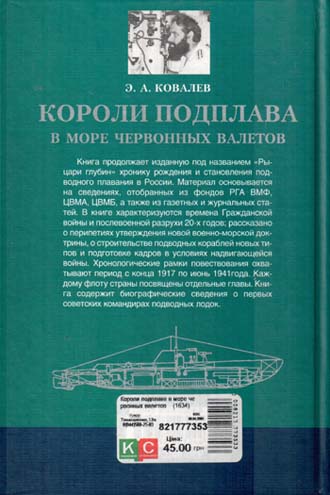
–‰―²–Α–Κ, –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-3¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –û―¹–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–≤ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹ (–Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥) –Η–Ζ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ, –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 2 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ë–ß-V –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ–± ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –ë―΄–Μ–Η ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄ –Η –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–≤―΄–Β –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η―²–Β–Μ–Η. –ù–Α ―΅―²–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–ê ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―é―²?¬Μ. –Δ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ―²–≤–Β―² ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–≤–Ψ―΅–Κ–Η: ¬Ϊ–ü–Α–Ω–Α-―²–Ψ –Φ–Ψ–≥, –Ϋ–Ψ –±―΄–Κ –Μ―É―΅―à–Β¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ–±–¥―É–Φ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―²–Ψ–Ε–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Κ.
–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–¥–Φ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –Η –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ –Ω–Ψ –Η―²–Ψ–≥–Α–Φ –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Β–Φ, ―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Γ–Α–Ϋ―è –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ ―Ö–≤–Α―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Ψ―¹―²―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–½–Α–Φ―ÉβÄΠ–±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―¨?! –î–Α, ―ç―²–Ψ –Β–Φ―É –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α¬Μ. –ï―¹―²―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Α―è –Β–≥–Ψ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤–Α, ¬Ϊ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬ΜβÄΠ –Γ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α: –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –≤–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²―Ä–Η–¥–Β–≤―è―²―¨ –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―²–Ψ–≥–Ψ –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―΅―¨―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ¬Ϊ―¹―΄―Ä–Ψ–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ¬Μ –Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–≤–Ψ–Ι–Ϋ―É¬Μ. –ê ―¹–Α–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―² ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –Γ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ: –Ω–Μ―é―¹ –Η–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ―É―¹ ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ?! –≠―²–Ψ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤. –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ―΄–Ι –≤–Α―Ä―è–Ε―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Ζ–Α―¹–Η–¥–Β–≤―à–Η–Ι―¹―è –±–Β–Ζ –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Μ―è –Ψ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α―ë―² –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Η ―É–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–≤–Ψ―è―¹–Η. –£–Ψ―² ―²―É-―²–Ψ –≤―¹―ë –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è. –Γ–Α–Ϋ―è –Ψ―Ä–Β―², –≥–¥–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η –≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹―é –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é –Η –≤–Ψ –≤―¹―é ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ―É―é –≥–Μ–Ψ―²–Κ―É: ¬Ϊ–û–Ϋ–Η, ―ç―²–Η –≤–Α―Ä―è–≥–Η, –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Α–Ω―¨¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Η, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Α–Ω―¨-–¥–Β¬Μ –Ζ–Α―Ä–Ε–Α–≤–Η–Μ–Η!¬Μ –ê, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Η? –î–Α, –Ψ―²–Κ–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ –≤ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β: –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨―é –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―É–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―Ü–Ψ–≤. –†–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ―΄ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö14¬Μ.
–£ ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Α―è –Μ–Η–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―². –ù–Ψ ―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–‰―²–Α–Κ, ―ç―²–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Η–Μ–Β–≥–Α―é―â–Α―è –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α,
–Ϋ–Ψ –Η –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ. –î―É―à–Α –Ω–Ψ―ë―² –Ω―Ä–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤–Ψ –≤―¹―é ―¹–≤–Ψ―é ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é –≥–Μ–Ψ―²–Κ―É, –Ϋ–Α―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Β―â―ë –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α―Ö: ¬Ϊ–ö ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―É –Ω–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ψ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η―¹―²–Α–Α–Ϋ–Ϋ―Ü–Η–Η–Η–ΗβÄΠ! –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω―Ä―è–Φ–Ψ! –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ψ–Ψ! –†–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ! –®–Α–≥–Ψ–Φ –Φ–Α―Ä―à!¬Μ.
–Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η!!! –≠―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ü–¦ –Κ –±–Ψ―é –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É, –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Ω―Ä–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α―Ö –Η –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö.
–ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ ¬Ϊ–ö ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―ÉβÄΠ¬Μ, ―²–Ψ –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Μ–Η–¥–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Η: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Φ –±―É–¥―É ―è!¬Μ
–ù–Β –≤―¹–Β–Φ, –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Φ –¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨: ¬Ϊ–ö ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―ÉβÄΠ¬Μ. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Η–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰ –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Β―ë (–≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄), –Ω―É―¹―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α―Ö, βÄ™ –Μ–Η―Ü–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Β–Β –Ω–Α―Ä–Α–¥.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Α―Ü. –ü–Ψ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄. –£ –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤–Β–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É ―¹―É―Ö–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α.
–û–¥–Β―¹―¹–Η―² –ö–Η–Φ –Β―â―ë ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Η―Ä―¹―΄, –Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β βÄ™ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Η –ü–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ βÄ™ –¥–Β―²–Η―â–Β –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ, –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è.
–‰ –Β―â―ë, –≤ –Κ–Ψ–Β–Ϋ ―Ä–Α–Ζ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α―Ü―É, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ (–Γ–Φ–Β–Μ–Β–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Η―Ä―É–Ι―²–Β!!!)
"–‰ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨, –Κ–Α–Κ –≤―¹―²–Α―Ä―¨, –¥–Α–≤–Α―è –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä,
–ù–Α –Ω–Μ–Α―Ü –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä"...
βÄΠ–ê―É-―É-―É! –™–¥–Β –≤―΄, –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄? –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―Ü–≤–Β―²–Α –Ω–Β―¹–Κ–Ψ–≤ –Γ–Α―Ö–Α―Ä―΄. –ù―É, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Μ–Η―¹―è―²–Α –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Η―¹–Α –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Β–Μ―¨–¥–Φ–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –≠―Ä–≤–Η–Ϋ–Α –†–Ψ–Φ–Β–Μ―è. –‰ –≤ –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ö –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α―Ö –Ω―Ä–Η –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Η. –ê –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Α βÄ™ –≤ –±–Β–Μ―΄―Ö ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Κ–Α―Ö ―¹ –Α–Κ―¹–Β–Μ―¨–±–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η. –‰–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ (–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η) βÄ™ –Α–Κ―¹–Β–Μ―¨–±–Α–Ϋ―²―΄ ―ç―²–Ψ –Α―²―Ä–Η–±―É―²–Η–Κ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –‰ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β, –Η –Κ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Κ–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η.
–ü–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ–Β–Ι.
–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –î–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ –Ϋ–Β–Φ ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ζ–Α–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –€–Β―â–Β―Ä―è–Κ–Ψ–≤–Α –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤ –Β–≥–Ψ –≤ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Φ–Η–Φ–Ψ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ, –≤–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―à –€–Β―â–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ. –€–Ϋ–Β, ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―²–Α–Φ, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ ―É–¥–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨: ¬Ϊ–î–Α, –Ϋ―É!¬Μ
–Ξ–Ψ―²―è –Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Ψ, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, –≤―¹–Β –Ε–Β, –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Ω–Ψ-―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η βÄ™ ¬Ϊ–¥–Ψ –Ε–≤–Α–Κ–Α-–≥–Α–Μ―¹–Α¬Μ (–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ω–Η –Κ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è). –î―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¹―è.
–‰―²–Α–Κ, –Β―â―ë –Ψ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β –Η –Ψ ―¹–Β–±–Β –≤ –Ϋ–Β–Ι. –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Α –≤ –¥–Β–Μ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Κ–Α―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Ι
–£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η –≥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―² –Ψ―²―Ü–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α, ―¹–Μ―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α 90 –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ. –û ―΅―ë–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α 95-―²–Η –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ –Β–≥–Ψ –°–±–Η–Μ–Β–Β. –î–Α, –Η ―à–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ - ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―É –†–Β–Φ–Α –€–Α–Ζ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-286¬Μ –Η ―É –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α ―²–Ψ–Ε–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η!
–Γ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Ψ–Φ ―è –±―΄–Μ ¬Ϊ–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–Ζ–Η―¹―²―΄–Φ¬Μ, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–≤―ä–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Ψ–Φ.
–€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–± 90 –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ü–¦ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –±―Ä–Ψ―¹–Κ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –Η –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ (–Ϋ–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è) –Γ–Α―à–Α –ß―É―¹–Ψ–≤ (―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Μ–Η―à―¨ ―¹ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η). –Γ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α –Ω–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Η―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–†–Ψ–Κ–Ψ―¹―¹–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η¬Μ.
–£–Β―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–≤–Α–Μ–Η–Μ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –±―É―Ö―²―΄ ¬Ϊ–ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Γ―Ä–Β–¥–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–≤―à–Η―Ö –±―΄–Μ –Η ―è. –‰, –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―è βÄ™ ―ç―²–Ψ―² ―é–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η―è, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α: ¬Ϊ–Γ–Α―à–Α, –Α –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―É ―²–Β–±―è –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―² ―Ä–Ε–Α–≤―΄–Ι?¬Μ. –ê –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―¹–Μ–Α–±–Ψ –Ω–Ψ–¥―ë―Ä–Ϋ―É―²–Ψ –Μ―ë–≥–Κ–Η–Φ –Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ε–Β–≤―΄–Φ –Ϋ–Α–Μ―ë―²–Ψ–Φ.
–‰ –¥–Α–Μ–Β–Β, –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Β, ―è –≤―¹―ë ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ –Κ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–ΑβÄΠ .–≠―²–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β - ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Θ―¹―²–Α–≤―É, –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Κ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α, –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β, –Α –Β―¹–Μ–Η ―¹ –Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Η –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö¬Μ. –Γ―Ä–Ψ–Κ ¬Ϊ–Ψ―²―¹–Η–¥–Κ–Η¬Μ –Η–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ ―É–Ε–Β –Η―Ö –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ
–Δ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ―é –±―΄–Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –®–Α–±–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –±―É–¥―É―â–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Η –≤ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Η –Φ–Ψ–Β–Φ―É –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–Φ. –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Α ―¹ ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹–≤–Β―²–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ¬Ϊ–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ, –Δ–Ψ–Μ―è –®–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Α―Ä–Β―¹―²―É–Β―à―¨!¬Μ. –ß―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η βÄ™ –Α–Φ–±–Η―Ü–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–≤―΄–Φ–Η.
–ï―â―ë ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Φ¬Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, ―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ―Ä–Α–Κ―É―à–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―â―É–Κ–Β¬Μ ¬Ϊ–©-131¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä (―è –Β–≥–Ψ –Η –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ) –Μ–Β–Ε–Α–Μ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Η―à–Β―Ä ―¹–¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α: –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Β―΅–Α―²―¨, ―¹–Β–Ι―³ ―¹ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―Ä―²–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Ι –Φ–Α–Κ―É–Μ–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι, ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―è―â–Η–Κ, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β ―¹–Β–Ι―³–Α, ―¹ –Κ–Α–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α–Φ–Η ―¹–Ω–Η―Ä―²–Α βÄ™ –Η ―É–±―΄–Μ ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―³–Μ–Α–≥-–Φ–Η–Ϋ―ë―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α 19 –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –û―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –¥―Ä–Ψ–Ε–Α―â–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹―Ä–Ψ–Κ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―², –Ζ–Α ¬Ϊ–Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤¬Μ –Ζ–Α―¹―²―ë–≥–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –±―É―à–Μ–Α―²―΄ –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―è ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―Ö―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –≤–Η–¥ –≤ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ.
–ö―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ―â―É–Κ–Β¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α (―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ) –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅.
–ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ - –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α ―¹―². –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Β―². –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β: –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²–Κ–Α―²–Α―²―¨¬Μ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –ü–¦ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥, –Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ ¬Ϊ–†–Α–Κ―É―Ö―É¬Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Θ–Ε–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι (–≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―É –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α). –ù–Η ―²–Ψ―² –Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Η―Ö –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Β―΅–Α―Ö. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―à―¨―¹―è ―¹ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Ψ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-178¬Μ, ―²–Ψ ―è, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ε–¥―΄ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –ë–Ψ―¹―³–Ψ―Ä-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ, –¥–Η–≤―É –¥–Α―é―¹―¨: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è―â–Η–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ –™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 1 (–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―É–Ζ–Κ–Ψ―¹―²―¨) –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Η ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β? –ï―¹–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-178¬Μ –€–Α―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ –Η ―Ä―΄–±–Α–Κ―É –ö―É―Ä–¥―é–Κ–Ψ–≤―É –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –Ω―è―²–Β―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―É–¥ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ –Ω–Ψ 10 –Μ–Β―², ―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α, –Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ–Φ, –Η –Ω–Ψ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Φ–Α–Μ–Ψ.
–î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Θ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –ö–Ψ–¥–Β–Κ―¹―É. –£–Ψ―² –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Φ―É. –≠―²–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-178¬Μ (–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Ι―²–Β―¹―¨: ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―΅–Η―¹―²–Α―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨) –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―é –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―É. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η―é –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Α―Ä–Β―¹―². –‰ ―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –™–Β―Ä–Ψ―é –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä―É, –±―É–¥―É―â–Β–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η –Φ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Η –Ψ –Ϋ―ë–Φ –Η –Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –≤ –Κ–Μ―é―΅–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄―²–Η―è.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –Μ–Β―² –Ω―É―²–Η –Ϋ–Α―à–Η ―¹ –Δ–Ψ–Μ–Β–Ι –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Η―¹―¨. –û–Ϋ βÄ™ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Φ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α. –ê ―è ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―¨ –ê–ö–û–Γ βÄ™ –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–≥–Β–Ϋ―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ―΄―Ö (¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥–Ψ–Κ¬Μ) –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―΄―Ö –Η–Φ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ¬Ϊ―¹ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é¬Μ.
–Γ –Ϋ–Η–Φ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ.–Κ–Ψ–Φ–Α¬Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è, –≤ ―΅―ë–Φ –Δ–Ψ–Μ―è –Φ–Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Δ–û–Λ, –≤ –ß–Α–Ε–Φ―É, –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, ―É ―²–Β–±―è –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―²–Β–±–Β –Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ!¬Μ.
–£ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Α–±–Ζ–Α―Ü–Α ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―è ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η–Μ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β, ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Β–Φ–Ψ–Β, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α―¹―Ö―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι¬Μ. –‰ –≤–Ψ―² ―É―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ (–Ϋ–Β –Ω―É―²–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ ―¹–Μ–Α–±―΄–Φ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Α), ―è –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α―¹―² - –Ϋ–Β–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α: –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–™. –ë–Β–Μ–Α―à–Β–≤–Α - –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –®–Β―¹―²–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Δ–Α–Κ –Β―â―ë –≤ ―¹–≤–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α 26 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ–Ϋ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ―Ä―ë–Κ: ¬Ϊ–½–Α―Ö–Ψ–Ε―É –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―Ä–Α―¹―Ö―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ―΄, –≤–Α–Μ―è―é―²―¹―è –≤ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö, –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±―Ä–Α–Ϋ–ΨβÄΠ –Ϋ―É, –±–Α―Ä–¥–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –≤ –Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ!¬Μ. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β―¹―¨ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ: ―ç―²–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ–Β. –Γ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-45¬Μ 659 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α –Ϋ–Α –ê–Φ―É―Ä–Β, –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β¬Μ ¬Ϊ–¦-19¬Μ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-–® –Η ―²–Ψ–Ε–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö. –ù–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―²–Η–Φ –Ε–Β ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–Φ¬Μ, –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.
–£–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Κ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Η, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―¹ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β–±―è –≤ –Ϋ–Β–Ι.
–£ –Ω–Ψ―Ä―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹―²–≤–Α, –±―É–¥―É―΅–Η –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ―², ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –±―É–Φ–Α–Ε–Κ―É, –Ψ–±―Ä―΄–≤–Κ–Η –Β―ë –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―²―É―² –Ε–Β –Ϋ–Α –Α―¹―³–Α–Μ―¨―². –· ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Κ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Β–Φ―É –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Η –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é, –Κ–Α–Κ –Η–Φ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Η―Ö –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ –Β–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ―É, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―é.
–î–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η. –î―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―è ―¹―²–Α–Μ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä. –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ ―è ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Ϋ–Α ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ¬Ϊ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Η –±–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨. –€–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–¥―¨―è –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Α –≥.–û–¥–Β―¹―¹―΄, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä ―é―¹―²–Η―Ü–Η–Η –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ê–≥–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―É–Μ―¨–≤–Α―Ä–Α, –≥–¥–Β –Α–≤―²–Ψ–Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι: –Κ―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–¥–Β―² –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―è–Φ, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―è ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-133¬Μ –Φ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ –Δ–û–£–£–€–Θ (–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –£―΄―¹―à–Β–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β) –¦–Β–≤ –Γ―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, ―è –Β–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –¦―ë–≤–Α, ―²―΄, ―¹―²–Ψ―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –≤―΄–Ω―è―²–Η–≤ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥ –≥―Ä―É–¥―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –≤ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ϋ–Β ―É―¹―²―É–Ω–Α―²―¨¬Μ. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Η –Φ–Ψ–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ, –Η–Φ–Β―è –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ ¬Ϊ–½–Α –û―²–≤–Α–≥―ɬΜ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–Φ-―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –‰ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Μ ¬Ϊ–Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ¬Μ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è―¹―¨ –≤ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Β¬Μ, –Ϋ–Β―¹―É―â–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―è–Φ, ―è –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Μ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ–ê ―¹―É–¥―¨–Η –Κ―²–Ψ?¬Μ –Η –Ψ―² ―¹–Β–±―è –Β―â―ë –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è–Μ: ¬Ϊ–‰ ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–±–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―²!¬Μ. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Β–¥–Η―è, ―è –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Φ–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Β –Ψ―² ―É–Φ–Α¬Μ - ―ç―²–Ψ ―¹–≥―É―¹―²–Ψ–Κ –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –Η –Α―³–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ϋ―É―²―Ä―É¬Μ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Β–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Φ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β ¬Ϊ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β¬Μ –≤―Ä–Β–Φ―è. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –¦―É–Ϋ–Α―΅–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –≥–Η–±–Β–Μ–Η –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤–Α: ¬ΪβÄΠ–û–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤―ë–Μ –Ω–Ψ–¥ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Β–¥–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²―΄–Φ–Η –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―ɬΜ. –£ 4-―Ö ―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Μ–Ψ–≤–Α―Ä―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Β–Ι –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―³–Η–Μ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ –ê.–ü.–ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ψ–±―â–Β―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Α –Η ―³―Ä–Α–Ζ–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Ψ―² –ê.–Γ.–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –≤ –Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α―Ö XIX-XX –≤–≤ . –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―²: –Ϋ–Η ―²–Α–Φ, –Ϋ–Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–ö―Ä―΄–Μ–Α―²―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤¬Μ –Ψ―² –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –ù.–Γ.–ê―à―É–Κ–Η–Ϋ–Α –Η –€.–™.–ê―à―É–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ë―É–Κ–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Η ¬Ϊ–†–û–û–Γ–Γ–ê¬Μ –≠–Ϋ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ω–Β–¥–Η–Β–Ι –€―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –≤―΄ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥―ë―²–Β –¥–Α–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ê, ―¹―É–¥―¨–Η –Κ―²–Ψ?¬Μ –Ξ–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Λ–Β–Φ–Η–¥―΄ –≤ –Φ–Α–Ϋ―²–Η―è―ÖβÄΠ, –Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Κ –Κ–Ϋ―è–≥–Η–Ϋ–Β –€–Α―Ä―¨–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Ϋ–Β. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ê.–£. –¦―É–Ϋ–Α―΅–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι.
–†–Α–Ζ ―è ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ –Ψ ―¹―É–¥―¨―è―Ö –≤ –Φ–Α–Ϋ―²–Η―è―Ö, –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ–± ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –ê.–ê. –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Α: –ë–Α–Μ―É―Ö–Β –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Β –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Β - –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê–Ω–Β–Μ–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ξ–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–¥–Α, –¦―É–Ϋ―è―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Β –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β βÄ™ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Ω–Β–Μ–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–¥–Α. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―èβÄΠ –£ ―²–Ψ ―¹–Φ―É―²–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Α―²–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–≥―É ―¹ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Β–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –¦―É–Ϋ―è―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Φ―΄ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–¥–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Β–Φ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –½–Ψ―Ä–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ, –Β–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ―¹―²―¨―é. –î–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α―²―¨―¹―è. –£ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β 1991 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―¹―², –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ. –ë―É–¥―É―΅–Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η, –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² ―¹ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É–Κ–Α–Ζ –ï–Μ―¨―Ü–Η–Ϋ–Α –Ψ ―Ä–Ψ―¹–Ω―É―¹–Κ–Β –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1993 –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É, –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Β–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤ –ö–Γ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ψ. –£ 1994 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Η―è ―¹―É–¥―¨–Η –½–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄. –½–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ϋ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄, –≤ 1994 –Η 1995 –≥–Ψ–¥–Α―Ö, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―É―Ä―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―². –£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 2003 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ –≥–Μ–Α–≤–Ψ–Ι –ö–Γ, –Ω–Β―Ä–Β–Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 2006 –Η ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 2009 –≥–Ψ–¥–Α. –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―é―Ä–Η―¹―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―΅–Μ–Β–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η ―é―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Α–≤―²–Ψ―Ä ―Ä―è–¥–Α –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι. –‰, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β–±―΄–Μ–Η―Ü―΄, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Η–Β –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²―΄ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä–Φ―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ: ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–¥–Α –Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ –ê–Ι–≤–Α–Ζ―è–Ϋ –≤ –Μ–Ψ―²–Β―Ä–Β–Η –≤―΄–Η–≥―Ä–Α–Μ ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥―ɬΜ. –û―²–≤–Β―΅–Α–Β–Φ: ¬Ϊ–î–Α, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥―ɬΜ, –Α ―²―Ä–Η ―Ä―É–±–Μ―è –Η –Ϋ–Β –≤ –Μ–Ψ―²–Β―Ä–Β–Η, –Α –Ω―Ä–Β―³–Β―Ä–Α–Ϋ―¹ –Η –Ϋ–Β –≤―΄–Η–≥―Ä–Α–Μ, –Α –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Μ. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β –≤―¹―ë –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ¬Μ. –ß―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–Φ―É, –½–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―²: ―΅―²–Ψ, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, ―É –Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –≥–Α―Ä–Α–Ε –Η–Ζ 18 –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Β–Ι, ―¹–Α–Φ―΄–Ι –¥–Β―à–Β–≤―΄–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Β 100 ―²―΄―¹―è―΅ $. –£―¹―ë –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ ―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –½–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ϋ–Α, ―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―΄–Ϋ, –Α –¥–Ψ―΅―¨.
–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Β –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β. –£ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Γ–Ω–Ψ―Ä―²–Α –£–Ψ–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Η ¬Ϊ–Ζ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä¬Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è - –£.–ü.–†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η: ―¹–Ψ ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Ψ–Ω―¨―ë–≤―΄–Φ, –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Η–Φ–Ψ–Φ, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ 216 –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ë–Ψ―Ä–Η―¹―é–Κ–Ψ–Φ. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ¬Ϊ–Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α¬Μ –≤–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≥–Ψ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α.
–ö―¹―²–Α―²–Η, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –≠.–ü.–ö–Η–Φ, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –≤–Φ–Β―¹―²–Β, ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Α–Ε (!) ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―Ä―¹―΄ –¥–Μ―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―΄–Ϋ–Β ―à–≤–Α―Ä―²―É―é―²―¹―è –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β, ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α.
–ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –Η–Ζ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è –‰–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―è –Η ―É―΅―ë–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α―²―¨―è―Ö –Η –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―Ö. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –Ϋ―ë–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ü–Ψ–Μ―¨―à–Η¬Μ, –Ω―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ, –Κ 45 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –ü–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –™–¥―΄–Ϋ–Β.
–‰―²–Α–Κ, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹–≤–Ψ―é –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, ―è ―É–Ε–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –ü–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Β–Ι ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –ö–Μ–Α–≤–¥–Η–Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄ –½–Α–Ι―Ü–Β–≤–Ψ–Ι, ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―è–Κ–Ψ―Ä―¨. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Α―é –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Β–Ι –Β–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ, –≤―΄–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Κ–Β―²–Β –Η –Ϋ–Α ―¹―²―ë–Κ–Μ–Α―Ö –≤―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–≤–Β―Ä–Η –≤ –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β-―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―², –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Α–Φ–Η, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ―Ö–Μ–Α–Φ–Ψ–Φ¬Μ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Η–Κ–Α
–û ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –≤ 4-–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β βÄ™ –ö–Μ–Α–≤–¥–Η–Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β ―è –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α―Ö –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ψ –Ϋ–Β–Ι, –Ψ –Β―ë ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Β –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Β –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –Η –Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Φ –±―Ä–Α―²–Β –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –½–Α–Ι―Ü–Β–≤–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Β, –ß–Μ–Β–Ϋ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α.
–ö–Α–Κ-―²–Ψ, –Φ―΄, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―è –Η –¦―ë–≤–Κ–Α –Γ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Ι –±―΄–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö ―É –ö–Μ–Α–≤–¥–Η–Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ϋ–Α –¥–Α―΅–Β. –‰ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―²―É–¥–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™.–Λ.–½–Α–Ι―Ü–Β–≤, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α―è ―Ä―É–Κ―É, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è: ¬Ϊ–î―è–¥―è –™–Β–Ϋ–Α, –¥―è–¥―è –™–Β–Ϋ–Α¬Μ.
–ï–≥–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ –Η –ù–Α―΅–ü–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Ι –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Η–Φ―è –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α, –≥–¥–Β ―è –Η ―É―΅–Η–Μ―¹―è.
–Θ–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É –Η –Ψ –Ζ―è―²–Β –ö–Μ–Α–≤–¥–Η–Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄, –Φ―É–Ε–Β –Β―ë –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Ι –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η βÄî –°―Ä–Η–Η –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β –£–Ψ–Μ―¨–Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–†. –‰ –Ψ –Ϋ―ë–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –ê –Ψ–± –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Β βÄ™ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α―Ö.
–€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Α ―è ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε―É, –Ψ–Ω―è―²―¨ ―É–Ω―Ä―ë–Κ –≤ –Φ–Ψ–Ι –Α–¥―Ä–Β―¹: ―É–Ε –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è ¬Ϊ–≤–Α–Μ―é¬Μ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Κ―É―΅―É. –ù–ΨβÄΠ, –Α ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –‰–Φ―ë–Ϋ –Η –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι!!! –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Α―é―²―¹―è –Φ–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β: ¬Ϊ–ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –£―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β―²–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –£―΄ –¥–Α―ë―²–Β –Μ―é–¥―è–Φ –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β. –ö–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –≤–Β―΅–Ϋ―΄, –Η –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―²–Η―Ä–Α–Ε–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä―É –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ―É―é¬Μ.
–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹―¹―É–¥―¨―²–Β, –Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–Ι―²–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Η, –Ψ―²–Ζ―΄–≤―΄, ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―²–Α–Φ –Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ –Η ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅―É –£–Α–Φ –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β.
|
|
3. –‰ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Η―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ. –ß–ê–Γ–Δ–§ 1
| |
–· –±―΄–Μ –≤ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨–Β βÄ™ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ ―¹–Β–Ι ―¹―é–Ε–Β―² –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―² –≤ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â―É―é –≥–Μ–Α–≤―É (¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ü―Ä–Η―¹―è–≥–Β¬Μ), –≥–¥–Β ―è ―²–Α–Φ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β –¦–Β―¹–Κ–Ψ–≤–Β ―¹ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–ß–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ–Ψ, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅―ë―²–Β, –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ: ¬Ϊ–Ϋ–Η―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Β–Φ―É –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ¬Μ, –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Β–ΦβÄΠ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Φ. –Γ–Β–±―è ―è –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é, –Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Ψ―²―΅–Α―¹―²–ΗβÄΠ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Η –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β―². –ê –≤–Ψ―² –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι, –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –†―è–±–Ψ–≤ (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι βÄ™ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤), –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹―²―¨ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–Ζ―΄–±–Μ–Β–Φ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ –Ϋ―ë–Φ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η: –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η 40-–Μ–Β―²–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―é–Ϋ–≥–Η –£–Η―²–Η –Γ–Κ–Ψ–±―Ü–Ψ–≤–Α, ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―²–Α―²―É―¹―É –Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ω–Η―¹–Κ―É –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é (–Ψ–Ϋ –Α–≤–Η–Α―²–Ψ―Ä). –ù–Ψ –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Μ–Η―Ü–Α―Ö –Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Α―²―¨ ―³–Ψ―Ä―É –Μ―é–±–Ψ–Φ―É ―É–±–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ―É¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É.
–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Φ―΄ ―¹ –£–Η―²–Β–Ι, ―².–Β. –Ψ–Ϋ –Η ―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –Ω―É―¹―²–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Α –ö–Μ―É–±–Α –€–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –ï–Μ–Β, –Β–Μ–Β –¥–Ψ―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –≤–Α―Ö―²―ë―Ä–Α –Κ–Μ―É–±–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―ɬΜ. –‰ –Φ―΄ –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨ ―à–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ–±–Β–Ζ–Μ―é–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –Η–¥–Η–Ψ―²―¹–Κ–Η ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ–Η.
–ë―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Β –Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, ―¹ –Κ–Β–Φ –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―ë –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, ―¹ –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –†―è–±–Ψ–≤―΄–Φ, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α ¬Ϊ–ê―Ä–±–Α―²¬Μ ―¹ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ―Ö–Α―É―¹–Κ–Η–Φ¬Μ –≤–Α―Ä―¨–Β―²–Β, –≤―΄―à–Α–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω–Ψ –ù–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –ê―Ä–±–Α―²―É, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²―É, –Η –≥–Ψ―Ä–Μ–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η.
–‰ –Β―â―ë –≤–Φ–Α―¹―²―¨. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–Γ-335¬Μ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–Β–Μ–Ψ–Ζ–Η―² ―²―É–¥–Α-―¹―é–¥–Α¬Μ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α-―è―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –û–Ω―è―²―¨-―²–Α–Κ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Α―è ―é–Ε–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨. –· –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²–Β, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², ¬Ϊ–≤―΄―¹―É–Ϋ―É―²―΄–Ι¬Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –Η–Ζ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η. –ê –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Β―ë, –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –°―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ-–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―΄―à–Β–≤ –Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –£–Α―¹―è –û–Μ–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä―΄) βÄ™ –¥―É―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η: ¬ΪβÄΠ–Α –Ψ–Ϋ ―¹ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―èβÄΠ –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Α –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Β―Ä–Κ–Α, –Ψ–Ϋ–Α ―¹ ―É–Φ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–≤–Β–Μ–Α¬Μ.
–ê –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ω–Β–Μ–Η (!), –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Β:
–· –Ω–Ψ ―¹–≤–Β―²―É –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ
–•–Η–Μ –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Ϋ–Κ–Β, –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ö, ―²–Α–Ι–≥–Β
–ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –±―΄–Μ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ζ–Α–Ε–Η–≤–Ψ,
–•–Η–Μ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ―É–Κ–Β, –Μ―é–±–Η–Μ –≤ ―²–Ψ―¹–Κ–Β.
–ù–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è
–‰ –≤–Β–Ζ–¥–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ ―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α:
¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è –Φ–Ψ―è –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α,
–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –Φ–Ψ―è –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α!¬Μ
–ü–û–î–™–û–Δ–‰–· βÄ™ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β (–£–£–€–ü–Θ). –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â βÄ™ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²―΄, –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö βÄ™ –ü–Η―²–Ψ–Ϋ―΄, –Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ψ–Ϋ–Η –±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü―΄-–±―Ä–Α―²―¨―è. –ü–Α―Ü–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Φ–Α–Μ–Ψ–Φ–Β―Ä–Κ–Η –Ω–Ψ 14, –Α ―²–Ψ –Η –Ω–Ψ 11 –Μ–Β―²βÄΠ. –‰–Ζ ―ç―²–Η―Ö –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤, –ü–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ βÄ™ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Κ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–¥, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α–Φ–Η.
–ê ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Β–Ι –Η –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―΄ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹―΄–Ϋ–Κ–Η, –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –±–Ψ―è–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α. –ù–Α―Ü–Η―è, –≤―΄―¹―²–Ψ―è–≤―à–Α―è –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α: –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Α–Μ–Μ–Β―Ä–≥–Η―è –Η –Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Κ―É–±–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α ―²–Ψ–Ε–Β (―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η).
–ù―É, ―΅―²–Ψ –≤―΄, ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β βÄ™ –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ―΄ –Β―¹―²―¨ –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ―΄, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–ΗβÄΠ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ βÄ™ ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι –≤ ―¹―²–Ψ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö, –Ζ–Α–Μ–Η―Ö–≤–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –≥–Μ–Ψ―²–Ψ–Κ:
¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≥–≤–Α―Ä–¥–Η―è –Η–¥―ë―² ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–ΨβÄΠ¬Μ
–Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―è –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―é –Η ―Ä–Η―³–Φ―É, –Ω–Β–Μ–Η, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―è –≤―¹―è–Κ―É―é ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –±―΄, ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ω–Ψ ―É―à–Α–Φ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Η―¹–Κ―É―à―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α, ―¹―É–≥―É–±–Ψ ―à―²–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α –Ω–Ψ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―É –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η-–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―Ä―΄―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Α. –ê –Φ―΄, ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β, –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É βÄ™ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ―à–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Κ–Α –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –½–Ψ―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―², –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≤–Ζ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ê ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ βÄ™ –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β ―É –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –Η ―É –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ü–Η–Κ―É–Μ―è. –‰―²–Α–Κ:
¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≥–≤–Α―Ä–¥–Η―è βÄΠ.. –ê-–Α-–Α–≤–Β―Ä–Η–Ϋ–ΑβÄΠ¬Μ
(–±―΄–Μ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―², –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è, –Ϋ–Ψ ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι).
–ù―É, –Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Α―è –Η–Φ–Β–Μ–Α –¥–Α–Ε–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è:
¬Ϊ–Γ–Κ–Α–Ε–Η-–Κ–Α, –¥―è–¥―è, –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ
–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, ―¹–Ω–Α–Μ―ëβÄΠ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α ―¹–Ω–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ–Φ,
–Ξ―Ä―Ä―Ä–Α–Α–Α–Ϋ―Ü―É―É–Ζ―É –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Α,
–Ξ―Ä―Ä―Ä–Α–Α–Α–Ϋ―Ü―É―É–Ζ―É –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–ΑβÄΠ¬Μ
–ü–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―É ―è ―²–Β–±―è, ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Η–Ζ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α 43-–Φ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β, –Ω―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ 100-–Μ–Β―²–Η―é –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –£―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è ―²–Α–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ –ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄: –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η –Ω–Ψ –ù–Β–≤–Β –Η –Ω―Ä.–Ω―Ä. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Β–Ϋ–Η–≤–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―â–Η–Φ –¥–Ψ–Ε–¥―ë–Φ, ―¹–≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ–Ϋ―É―²―¨, –Ζ–Α–Ω–Β–Μ–ΗβÄΠ –Δ–Β–Φ–Α –≤―¹―ë ―²–Α –Ε–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö―Ä–Η–Ω–Β–Μ –Ψ ¬Ϊ―Ö―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Α―Ö¬Μ, ―²–Ψ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α, –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–¥―ë―Ä–Ϋ―É–Μ: ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–±–Ψ―Ä―² –Ψ –±–Ψ―Ä―²¬Μ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Μ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ Jean-Marie Mathey, –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²―²–Α―à–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –Γ –Ϋ–Η–Φ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β―â―ë –Ϋ–Α 37 –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–±–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è. –Γ–≤–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –≤―¹–Β―Ö –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä–Ψ–≤ ―è –Β–Φ―É –¥–Α―Ä―é ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Β―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –‰–Φ―è. –‰, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ε–Β. –î–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Ω–Β-―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η ―¹ –Ϋ–Η–Ε–Β –Ϋ–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι: ¬Ϊ–£―¹–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –Κ–Α―é―²–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α―Ö¬Μ, ―².–Β. ¬ΪToujoursTu sujet de femmrs¬Μ.
–ï―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–± ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―Ü–Β –Η –Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Β –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Α―è ―Ä–Ψ―²–Α, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –Η –≤ –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹―²―¨–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Β―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ―É–Ω–Μ–Β―²:
¬Ϊ–£―¹―ë ―¹–Η–Ϋ–Β–Β―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Β, –Η –±–Β–Μ–Β―é―² –Ω–Α―Ä―É―¹–Α
–· –Μ―é–±–Μ―é ―²–Β–±―è –Η –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η ―²–≤–Ψ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–ΑβÄΠ¬Μ
–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ, –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α ―Ä–Ψ―²―΄ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―²: ¬Ϊ–Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ω–Ψ –¥–≤–Α –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ –Φ–Α―Ä―à!¬Μ
–Δ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Β―â―ë –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Ψ–Β –Ε–Η–Μ―¨―ë βÄ™ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Η. –ü―Ä–Η –Ψ–±―â–Β–Φ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄, –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²¬Μ, –¥–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Μ–Η.
–ê ―Ä–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ω–Β―²―¨. –ê ―²–Β, –Ω–Ψ –¥–≤–Ψ–Β, –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ―É–≤ –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α―é―² (–≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β βÄ™ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥, –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹). –£―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Ω–Β―²―¨. –‰ ―²–Α–Κ –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α―Ä―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ¬Ϊ–Ϋ–Α ―à–Κ–Β–Ϋ―²–Β–Μ–Β¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ ―¹ –°―Ä–Κ–Ψ–Ι –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ (―à–Κ–Β–Ϋ―²–Β–Μ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α―²–Α). –£―¹–Β ―É–Ε–Β –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―², –Α –Φ―΄ –≤–¥–≤–Ψ―ë–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β–Φ –Ψ―Ä–Α―²―¨ –≤–Ψ –≤―¹―é –≥–Μ–Ψ–¥–Κ―É. –®–Α–≥ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥ –Η –Φ―΄ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Β–Φ, ¬Ϊ–Κ–Α–Κ ―Ä―΄–±―΄ –Ψ–± –Μ―ë–¥¬Μ. –≠―²–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Ε –Η–Ζ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Α―³–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Ψ―²―΄ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –ë–Α–Κ–Μ–Α–Ϋ–Α, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ψ―Ä-–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄. –ê –Φ–Ϋ–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –ü–Η―²–Ψ–Ϋ―΄, –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –Δ–Ψ–Μ―è –¦―É―Ü–Κ–Η–Ι –Η –Γ–Μ–Α–≤–Α –½–Α–Φ–Α―Ä–Β–≤. –ë―΄–Μ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ë–Α–Κ–Μ–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ. –£–Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η:
¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ ―à―²―΄–Κ:
–£–±–Η–Μ –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É –Η –Ϋ–Β ―à–Β–≤–Β–Μ–Η―¹―¨!¬Μ
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄, –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Ψ―²―΄, –Ω–Ψ―΅–Η―â–Β ―ç―¹―²―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –£–Η–Ϋ–Ψ–Κ―É―Ä–Α.
¬Ϊ–£ ―Ä–Ψ―²–Β –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–±–Β–Ζ―¨―è–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è¬Μ.
¬Ϊ–†–Α–Ζ–Ψ–Φ–Κ–Ϋ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –ΗβÄΠ–¥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–±–Α!¬Μ
¬Ϊ–ë–Ψ―²–Η–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―¹ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α,
―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Β–Ε―É―é –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―ɬΜ.
¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ζ–Α―΅―É―Ö–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β,
–Ϋ–Β –≥–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Κ–Α–Κ –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―²–Α–Φ ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―²―΄,
–Ω–Α―Ä–Η–Κ–Φ–Α―Ö–Β―Ä―΄, –±―É―Ö–≥–Α–Μ―²–Β―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Α―è ―¹–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅―¨βÄΠ¬Μ
–Λ―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ë–Α–Κ–Μ–Α–Ϋ –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Β–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β –≤–Β–¥–Α–Μ –Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―²–Η–Ω–Α–Ε–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –±–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ―΄, –±―Ä–Ψ–Κ–Β―Ä―΄, –Φ–Β–Ϋ–Α–Ε–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β. –û–Ϋ–Η, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –±―΄ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―¹.
–ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–± –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α―Ö (―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―¹―²–Α―Ö, –≤–Β―â–Β–≤–Η–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö)... –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –ê―²―²–Β―¹―²–Α―²―΄ –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –ü―Ä–Η―¹―è–≥―É –Η –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ, –±–Β–Ζ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –≤ –≤―΄―¹―à–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Δ–Β –Ε–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Α―²―²–Β―¹―²–Α―²―΄, –Α –Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –‰–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –£―΄–±–Ψ―Ä–≥–Β. –î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Ψ―Ä–¥–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Η ―à–Β―è ―¹–Ψ ―¹–Ω–Η–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è βÄ™ –Κ―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι?
–ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Δ–û–£–£–€–Θ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê―Ä―¹–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅ (–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-115¬Μ, –Α ―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι, ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η) –Ϋ–Α–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ –Α–±–Η―²―É―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Α –≤ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄–±–Ψ―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ 14βÄΠ –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ–Α βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ë–Α–Κ–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ?!
–£―¹―è ―ç―²–Α –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Κ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à–Κ–Η–Ω–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –±–Η―à―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –Β―¹–Μ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ψ―²–Κ–Α―²–Ψ–≤ –Ζ–Α –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Η–Φ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –û–Ϋ–Η –≤ ―¹–Φ―É―²–Ϋ―΄–Β 90-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―²–Ψ–Ε–Β –±–Β–Ζ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–Μ–Η. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β–Ϋ―Ä–Η –Λ–Ψ―Ä–¥: ¬Ϊ–· –Φ–Ψ–≥―É –Ψ―²―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ϋ–Ψ―é –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –ê –Κ–Α–Κ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö, –¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α?! –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β―²-–Ϋ–Β―² –¥–Α –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Α―é―², ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ―ë –Φ―É―Ä–Μ–Ψ –Ζ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ―΅―É―Ä, –±―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―¹―²―¨―é, ―΅–Β–Κ–Α–Ϋ―è, –¥–Α–Ε–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α―è –Η―Ö, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –Ζ–Α –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ. –ö–Α–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ë–ß-V –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –•–Η–Μ―è–Κ –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄: ¬Ϊ–‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–ΙβÄΠ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η¬Μ.
–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―΅–Β―¹―²–Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–≤―É ―ç―²–Η–Φ–Η –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ―²―Ä–Α–≤―΅–Α―²―΄–Φ–Η.
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―Üe.
–£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Α. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ―², –Α –Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α, ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α―Ü―É –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –£–€–Λ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ I ―¹―²–Α―²―¨–Η ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ (―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―²). –î–Α, –Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤–Ϋ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Α –Η–Φ–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ.
–ü–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Μ–Α―Ü –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Β–¥–Β–Μ, –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Β 2-–≥–Ψ –Η 3-–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α, –Η ―ç―²–Η ―Ä–Ψ―²―΄, –≤―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ, –Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ!¬Μ,βÄ™ –Ϋ–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ –Η–¥―É―² –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é, –Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―è, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Μ–Ψ–±. –‰ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹–≤–Α–Μ–Κ–Α –≤ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è―Ö βÄ™ –Κ―É–Μ–Α―΅–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Η, ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É. –ù―É, ―΅―²–Ψ –£―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β: –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ―΄ –Β―¹―²―¨ –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ―΄, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄. –‰ –Β―¹–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–Ζ–Β–≤–Α–Μ―¹―è¬Μ –Η –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ―¹―²–Η, –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α―¹―² –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ―É, ―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Η ¬Ϊ–≤ ―É―Ö–Ψ¬Μ.
–£ –≤―΄―¹―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö, –Κ―É–¥–Α –Φ―΄ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Κ–Ψ―¹―²–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –‰ –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Ω―Ä–Η ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω–Ψ 7, 5 –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―è ―¹–Α–Φ–Η –Ψ―²–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η βÄ™ ¬Ϊ–¥–Β―²–Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Μ–Η¬Μ.
–î–Β–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Α (–Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–≥–Ψ–¥–Η–Ζ–Φ¬Μ, –Ψ―² –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è ¬Ϊ–≥–Ψ–¥–Ψ–Κ¬Μ) –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ (–Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ, –Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η), –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–Μ–Η –¥–Ψ ―²―Ä―ë―Ö –Μ–Β―² –Η –Ϋ–Α–¥ ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η ¬Ϊ–≥–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ! –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ϋ–Β –≤ ―΅―ë―² βÄ™ –Η―Ö –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Ϋ–Η –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β, –Ϋ–Η –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β –Ϋ–Β―², ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β
–Θ–±―Ä–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–Φ―É–¥―Ä―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Η –Ζ–¥―Ä–Α–≤―΄–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Ψ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ.
–Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η–Ι –Κ―É–±―Ä–Η–Κ –±–Β–Ζ ―à―É―²–Ψ–Κ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Α―΅–Β–Κ. –≠―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –≤―΄–Μ–Β–Ζ―à–Β–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Β–¥―Ä ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ―É―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ¬Ϊ–¥–Β–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Β¬Μ ―¹ –Β―ë –Η–Ζ–Ψ―â―Ä―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Α–Φ–Η.
 –· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―ç―²–Η ―à―É―²–Κ–Η, –¥–Α –Η ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Α–¥–Α–Μ: –≤―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, –Φ–Ψ―ë –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤ –Η―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ-–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²: –Θ–Μ–Η―¹―¹, –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Α, –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –Δ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–±–Α–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Α―Ä–Κ–Ψ–Ι, –Η–Μ–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―΅–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ –Ζ–Α ―΅–Α–Β–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η–Ζ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ βÄ™ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―΅―²―΄ ―¹–Ψ ―à–Κ–Η–≤–Α–Φ–Η-―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Α–≥–Ψ–≤).
–· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―ç―²–Η ―à―É―²–Κ–Η, –¥–Α –Η ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Α–¥–Α–Μ: –≤―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, –Φ–Ψ―ë –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤ –Η―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ-–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²: –Θ–Μ–Η―¹―¹, –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Α, –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –Δ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–±–Α–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Α―Ä–Κ–Ψ–Ι, –Η–Μ–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―΅–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ –Ζ–Α ―΅–Α–Β–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η–Ζ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ βÄ™ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―΅―²―΄ ―¹–Ψ ―à–Κ–Η–≤–Α–Φ–Η-―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Α–≥–Ψ–≤).
–ê ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Β―â―ë ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―΅–Α―¹―²―΄–Φ –≥–Ψ―¹―²–Β–Φ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, ―²―΄ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―΅―ë―Ä―²–Α?¬Μ. –·: ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―΅―É!¬Μ. –‰ –¥–Α–Μ–Β–Β, ―ç―²–Ψ―² ―à―É―²–Ϋ–Η–Κ –¥–Α―ë―² –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –≤–Β―â–Η―Ü―É –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–· ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É–Ι–¥―É –Ζ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨, –Α ―²―΄ –Β―ë ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β ―¹–Ω―Ä―è―΅―¨, –Α ―è –Ϋ–Α ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α–Ι–¥―ɬΜ. –û–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤ ―à–Α–Ω–Κ–Β. –‰ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―â–Η–Ι ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―² –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Ϋ―é―Ö–Η–≤–Α―²―¨βÄΠ –Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ βÄ™ –Μ–Η―Ü–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ, –¥–Α―ë―² –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η –Ϋ–Α ―΅―ë―Ä―²–Α¬Μ. –£―¹―è –Φ–Ψ―è ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―è –±―΄–Μ–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ–Α―è –Ψ―² ―¹–Α–Ε–Η. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ―²–Β―Ö–Α ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Α–Ω–Κ–Ψ–Ι. –‰–Μ–Η –Β―â―ë –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä βÄ™ ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Ψ–Κ ¬Ϊ–™–Γ–·–ö¬Μ, –ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―É―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β (–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―²–Β! 38 0482 35-79-89).
 –ù–Α ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β 90-–Ι –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Γ–ö–†-–Β ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ –Φ–Β–Ϋ―è, ―é–Ϋ–≥―É, –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Η –Η –Ψ–Ω–Β–Κ–Α–Μ–Η. –£ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η―²―¨, –Φ–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Η –Κ―É―Ä–Η–Μ–Η. –ê ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ–Β–Ϋ–¥–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤: –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ¬Ϊ–ê–Φ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ –Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –±―΄–Μ–Α –Φ–Α―¹―¹–Α ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―² ¬ΪChesterfield¬Μ –Η ¬ΪCamel¬Μ –≤ ―ç–Μ–Β–≥–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Κ–Β.
–ù–Α ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β 90-–Ι –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Γ–ö–†-–Β ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ –Φ–Β–Ϋ―è, ―é–Ϋ–≥―É, –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Η –Η –Ψ–Ω–Β–Κ–Α–Μ–Η. –£ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η―²―¨, –Φ–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Η –Κ―É―Ä–Η–Μ–Η. –ê ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ–Β–Ϋ–¥–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤: –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ¬Ϊ–ê–Φ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ –Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –±―΄–Μ–Α –Φ–Α―¹―¹–Α ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―² ¬ΪChesterfield¬Μ –Η ¬ΪCamel¬Μ –≤ ―ç–Μ–Β–≥–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Κ–Β.
–ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α―é―â–Β–Β –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ι―²–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―¹ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ö–Ψ–Ζ–Η–Ϋ–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Φ–Ψ–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä–Ψ―¹―è–Ϋ–Ψ–Φ (–Ψ–Ϋ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ).

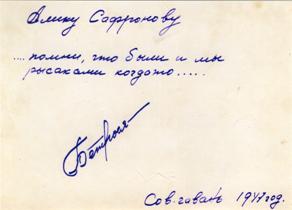
–ù–Β –±–Β–Ζ―΄–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Β. 1947 –≥–Ψ–¥. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –£–£–€–ü–Θ (–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β) ―è –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –±―É―Ö―²–Α –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α―è. –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Ψ–Η –Ω―Ä–Β–¥―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –û―²–Β―Ü –Φ–Ψ–Ι, –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€-46¬Μ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α 90-–Ι –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η–Φ–Β―è –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –ö–Μ–Α―¹―¹―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –û―²–Β―Ü –±―΄–Μ –Ϋ–Α –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –Μ–Β―² ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –‰, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―è –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β –≤―¹–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –· –±―΄–Μ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Ψ–Ι. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―é–Ϋ–≥–Η –Ϋ–Α –Γ–ö–† ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ, ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ–Κ–Α―Ä―è –≤ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –¥–Α–Ε–Β ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ―É.
–€–Β―Ö.–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö, –Κ–Α–Κ: ―²―Ä–Η ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö (–î–Η–ü-200), ―³―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―¨–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ―², ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –‰ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―² –ü–ü–® ―¹ –¥–Η―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η. –· –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―ç―²–Ψ―² –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―². –ë―΄–≤–Α―è –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–©-14¬Μ –≤ ―²–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–ü–ü–®¬Μ.
 –ê –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ –Μ–Α―²―É–Ϋ–Η, ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α–Φ―΄ –î–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄, ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η.
–ê –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ –Μ–Α―²―É–Ϋ–Η, ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α–Φ―΄ –î–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄, ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η.
–‰ –Β―â―ë –Η–Ζ ―²–Β―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –ü–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Κ–Μ―É–±–ΒβÄΠ –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–≤―΄ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Ψ―²–Η–Ϋ–Ψ–Κ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α III ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ö.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Κ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â―É –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É. –ê –≤ 1962 –≥–Ψ–¥―É ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β ―²―Ä―ë―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ―΄–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–ê –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ι, –≥–¥–Β ―è ―²–Α–Κ –Ε–Β –±―΄–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–ΙβÄΠ –ö–Α–Κ –Ϋ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β. –ü―Ä–Η ―²–Β–Ω–Β―Ä–Β―à–Ϋ–Β–Φ –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―² –≤–Β―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β c―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
–‰–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α βÄ™ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Α –¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β–Μ–Κ–Α―Ö. –ù–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤: ¬Ϊ–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ–±―΄ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β?¬Μ (–Θ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ψ–Ϋ–Η  –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β). –ù–Α―à–Η, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η―Ö–≤–Α―²―¹―²–≤–Α: ¬Ϊ–‰―Ö –±―É–¥–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η¬Μ.
–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β). –ù–Α―à–Η, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η―Ö–≤–Α―²―¹―²–≤–Α: ¬Ϊ–‰―Ö –±―É–¥–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η¬Μ.
–· –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–≠―²–Η ―â–Β–Μ–Κ–Ψ–Ω–Β―Ä―΄, –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²―΄–ΒβÄΠ¬Μ. –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹ ―É–Ω–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Β―â–Α―é―², ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ ―¹–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―²―Ä―ë―Ö –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Β–≤.
–£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ, –Α –≤–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Φ–Η―è, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅―ë―²–Β, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ.
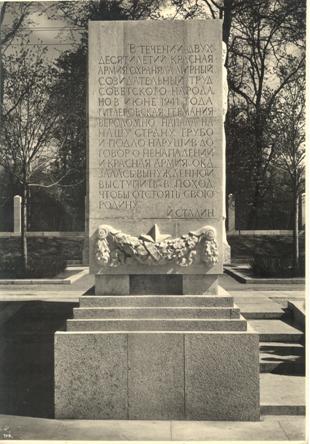
–ù–Α –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Β, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Δ―Ä–Β–Ω―²–Ψ–≤ –Ω–Α―Ä–Κ, –Ϋ–Α―΅–Β―Ä―²–Α–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ¬ΪβÄΠ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Φ–Η―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²―¹―²–Ψ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É¬Μ.
–ü–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é, –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –≤ –®–≤–Β―Ü–Η―é, ―è ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –±–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Β–≤–Α―è: ¬Ϊ–ü–Ψ –±–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Η ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω–Ψ–ΙβÄΠ¬Μ
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―è –≤―¹―ë –Ε–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –≤ ―Ä―É―¹–Μ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.
–‰―²–Α–Κ, 1947 –≥–Ψ–¥. –€–Ϋ–Β 17 –Μ–Β―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –£–£–€–ü–Θ ―è –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –±―É―Ö―²–Α –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α―è. –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Ψ–Η –Ω―Ä–Β–¥ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Φ–Ψ―ë –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ ―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Η―¹―²–Β–±–Μ–Η―à–Φ–Β–Ϋ―²–Α¬Μ. –ù–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―ë―² –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –Ξ–Η–Μ―¨, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨.
–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Φ–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–ΒβÄΠ –‰ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç―²–Α –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ: ¬Ϊ–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ –Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η ―Ä―΄―¹–Α–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ¬Μ.
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ. –ü–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α ―Ü–Β–Ω―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è –Φ–Ϋ–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è.
–ß―²–Ψ–±―΄ ―É–≤―è–Ζ–Α―²―¨ ―²–Β–Κ―¹―² ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Α ―¹ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―΅–Ϋ―É –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α. –£ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ. –≠―²–Ψ –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α βÄ™ –Φ―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α –≤–Ϋ–Β βÄ™ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ (–Η –Ϋ–Η –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ–Α―΅–Β!)
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―ë–Κ ―É –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ–Κ―É―Ä–Β–≤–Ψ¬Μ, –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Φ–Α―Ö–Ψ―Ä–Κ–Α. –ü–Ψ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η ―¹―²–Ψ –≥―Ä–Α–Φ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η―Ö, –¥–Α–Ε–Β –Η –Ω–Ψ –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η. –ö―É―Ä–Η―²―¨ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Η –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ¬Ϊ–Κ―É―Ä–Β–≤–Α¬Μ –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –¥–≤–Β –Ω–Μ–Η―²–Κ–Η ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü, –Η–Μ–Η –Ε–Β 300 –≥―Ä–Α–Φ–Φ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―² (18 ―à―²―É–Κ). –ù–Ψ, –≤–¥―Ä―É–≥, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―²βÄΠ –ü–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –ù–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η ―²–Ψ―² –Ε–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥―É―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥?¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ III –™–Β–Ι–Μ–Β―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―ë–Κ βÄ™ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Η, –Κ―É―Ä–Β–≤–Ψ –Ε–Β –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Α. –‰ –≤–Ψ―², –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―².  –Δ–Α –Ε–Β ―Ä–Ψ―²–Α, ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄, –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η βÄ™ –ü–Α–Ω–Α –™–Β–Ι–Μ–Β―Ä –Η –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ βÄ™ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –Δ–û–£–£–€–Θ (–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α). –£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è: ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –Θ―¹―²―¨―è–Ϋ―Ü–Β–≤, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥―É―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥?¬Μ. –®–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Α ―²―Ä–Η –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α –≤–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ!
–Δ–Α –Ε–Β ―Ä–Ψ―²–Α, ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄, –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η βÄ™ –ü–Α–Ω–Α –™–Β–Ι–Μ–Β―Ä –Η –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ βÄ™ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –Δ–û–£–£–€–Θ (–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α). –£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è: ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –Θ―¹―²―¨―è–Ϋ―Ü–Β–≤, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥―É―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥?¬Μ. –®–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Α ―²―Ä–Η –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α –≤–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ!
–ù–Α ―³–Ψ―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ, –Γ–Α–Ϋ―è –Θ―¹―²―¨―è–Ϋ―Ü–Β–≤, –≤–Η―Ü–Β-–≤–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―à–Η–Ι 11 –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ζ–Α –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ)
–ù–Α―΅–Α–Μ ―è –≥–Μ–Α–≤―É ―¹ ¬Ϊ–ß–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α¬Μ –¦–Β―¹–Κ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η–≤ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é. –ï―¹–Μ–Η ―²–Α–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Α –Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Α –≤ ¬Ϊ–·―Ä―É¬Μ, –Ω–Ψ―É―²―Ä―É –Ω–Η–Μ–Η ―΅–Α–Ι ―¹ –Ω―è―²–Η –Κ–Ψ–Ω–Β–Β―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –±―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ... –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Α –Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Α.
–ù–Α–Φ–Β–¥–Ϋ–Η, ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–±―Ä–Β–Μ–Η –≤ –≥–Η–Ω–Β―Ä-―¹―É–Ω–Β―Ä–Φ–Α―Ä–Κ–Β―², –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε, ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä―É¬Μ. –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α βÄ™ –≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―è–¥―΄, –Α ―è, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Κ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α–Φ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄–ΦβÄΠ –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É –Κ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è. –û–Ϋ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ―è―¹–Κ–Ψ–Ι (–≤―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Κ–Α–Κ, –ù–Ψ–≤―΄–Ι –™–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹―É!), –Α ―è ―¹ –Κ–Ϋ–Η–≥–Ψ–Ι –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤–Α –Ψ –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Α–≤―Ä–Β–Ϋ―²–Η–Η –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β –ë–Β―Ä–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –¥–Β–≤―è–Ϋ–Ψ―¹―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Η–Φ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ!
–ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, –≤―΄–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –Κ–Ψ―à–Β–Μ―¨–Κ–Η –Η –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Μ–Η–≤―΄–Ι –½–Ψ―â–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ ―É –±―É―³–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η.βÄΠ–ö–Α–Κ –Ϋ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―²–Β –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–Ϋ–Α―΅–Κ–Α¬Μ –Η –Ϋ–Η –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Α –≤ –Ω–Α―Ä―²–±–Η–Μ–Β―²–Β. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β –≤ ¬Ϊ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Φ¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η-―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ: –Ϋ–Η –Ω–Α―Ä―²–±–Η–Μ–Β―²–Α, –Ϋ–Η ¬Ϊ–Ζ–Α–Ϋ–Α―΅–Κ–Η¬Μ –≤ –Ϋ―ë–Φ.
–û―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―Ä–Ψ–Ω―²–Α―²―¨, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è –≤ –≥―É–Μ. –ö―É–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ―â–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―¹ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤―΄–Φ, ―²–Ψ –±–Η―à―¨ ―¹ –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¦–Α–≤―Ä–Β–Ϋ―²–Η–Β–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≤–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –≤–Ψ–Ω–Η―ë―²: ¬Ϊ–€–Ψ―ë! –ù–Β –Ψ―²–¥–Α–Φ!¬Μ
 –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Ζ–Α–¥–Η ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≤–Β―Ä–Ζ–Η–Μ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―ç―²–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Α: ¬Ϊ–· –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―΅―É!¬Μ –‰ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–ΜβÄΠ ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―² –Κ–Ψ–Ω–Β–Β–Κ. –‰ –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–ΑβÄΠ –ê –≤–Β–¥―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Η–Ω–Β―Ä-―¹―É–Ω–Β―Ä–Φ–Α―Ä–Κ–Β―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α–¥―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ, –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ, –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β ―¹ –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü―΄ –û–¥–Β―¹―¹―΄,βÄî ―è –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―ë 80-―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö: –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Β–¥―à–Η―Ö ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―ë–Κ¬Μ,βÄ™ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α―²―¨ –Π–Η―³―Ä–Β –Μ–Β―² –°–±–Η–Μ―è―Ä–Α. –ù–Α―΅–Α–≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Η –≥–¥–Β-―²–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–≤―É–Κ–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―΄ –ü–Α―Ö–Φ―É―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹―²–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α¬Μ
–î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Ζ–Α–¥–Η ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≤–Β―Ä–Ζ–Η–Μ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―ç―²–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Α: ¬Ϊ–· –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―΅―É!¬Μ –‰ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–ΜβÄΠ ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―² –Κ–Ψ–Ω–Β–Β–Κ. –‰ –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–ΑβÄΠ –ê –≤–Β–¥―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Η–Ω–Β―Ä-―¹―É–Ω–Β―Ä–Φ–Α―Ä–Κ–Β―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α–¥―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ, –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ, –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β ―¹ –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü―΄ –û–¥–Β―¹―¹―΄,βÄî ―è –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―ë 80-―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö: –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Β–¥―à–Η―Ö ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―ë–Κ¬Μ,βÄ™ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α―²―¨ –Π–Η―³―Ä–Β –Μ–Β―² –°–±–Η–Μ―è―Ä–Α. –ù–Α―΅–Α–≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Η –≥–¥–Β-―²–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–≤―É–Κ–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―΄ –ü–Α―Ö–Φ―É―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹―²–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α¬Μ
–≤–Κ–Α―²–Η–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ―É ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –ë–Η―¹–Κ–≤–Η―² –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η 627 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ14¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ. –î–Α, –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β ―Ä–Β―è–Μ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β ―³–Μ–Α–≥, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹–Ψ ―¹―²–Α―²―É―¹–Ψ–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α.
–ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –°–Ϋ–≥–Η –£–Η―²–Η –Γ–Κ–Ψ–±―Ü–Ψ–≤–Α βÄ™ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ¬Ϊ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Μ–Β―²–Η–Β¬Μ –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―è –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è―Ö ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Β―²―¨–Η–Φ ―²–Ψ―¹-―²–Ψ–Φ –Η–Ζ ¬Ϊ–£–Α–≥–Α–Ϋ―²–Ψ–≤¬Μ, ―è ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ―¹–Β–Μ―¨―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é¬Μ.
–ü–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –°–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α, –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–¥–Β–Μ–Η–≤―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η: –≤―¹―ë –Ε–Β –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Μ―É―΅―à–Β–Φ –Β―ë ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β –Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Η–Φ –≤―¹–Β–Φ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –û–±―â–Β-–Ϋ–Η―è. –‰ –Κ―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²βÄΠ? –ë―É–¥–Β―² –Μ–Η –Β―â―ë ―²–Α–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –¥–Α –Β―â―ë –Η –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è ―³―Ä–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ. –£–Β–¥―¨, –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Ψ–±–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–≤–Α―è –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –±―É–¥–Β―², ―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –±―É–¥―ɬΜβÄ™ –≤―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, –Φ―΄ –Ε–Η–≤―ë–Φ –≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, –≥–¥–Β ¬Ϊ–¥–≤–Α ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―Ü–Α βÄ™ ―²―Ä–Η –≥–Β―²―¨–Φ–Α–Ϋ–Α¬Μ. –ù–Ψ –±―΄–Μ–Η –≤―¹–Β: –Η ―²–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β, ―΅–Β–Φ―É ―è –±―΄–Μ –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥ –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤!!!
–û―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –Η―Ö ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β.
–Γ―²–Α―¹ –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-V –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-270¬Μ βÄ™ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―΅―É–¥–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Μ―¨–¥–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ, –Γ―²–Α―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι βÄ™ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Η–≤―É―² –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ: –Ψ―² –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η –¥–Ψ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ–Φ ―¹–Β–±–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è. –‰–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―èβÄΠ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥, –Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ-–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î–Μ―è –Φ–Ψ–Β–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β―ë –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―à βÄ™ –Ψ–Ϋ –≤–Β―¹―¨ –Η ―É―à―ë–Μ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Γ–±–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹ –ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–Ψ–≤βÄΠ¬Μ –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨.
–£–Ψ―² –Κ–Α–Κ ―è –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –¥―Ä―É–≥–Β –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η 10 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β: ¬Ϊ2004 –≥–Ψ–¥. –û–¥–Β―¹―¹–Α βÄ™ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –‰–Φ―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨. –ê ―΅―²–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨? –û–Ϋ –Η–Ζ ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―² –Η ―²–Α–Κ.
¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Γ–≤–Β―²―É. –‰ –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Δ–Β―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Ψ–Μ–Ψ―à–Η–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α―à –û–¥–Β―¹―¹–Η―² –ö–Α―Ä–Β–Ϋ –ü–Β―²–Ψ-―è–Ϋ, –Ϋ―ë―¹―à–Η–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –£–Ψ–Ι―¹–Κ–Α―Ö –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―è –Φ–Β―¹―²–Α –±–Α–Ζ–Η-―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –û–Ϋ –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―è –Η―Ö –Ψ―² –Ε–Η-―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Α. –ù–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É–Ε –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–î–Ϋ―è –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –±–Β–Ζ –Β–≥–Ψ ―â–Β–¥―Ä–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –Δ–Α–Κ –ë–Ψ―Ä–Η―¹―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –ë―É–Κ–Β―²–Ψ–≤―É, –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É, –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è¬Μ
–≠―²–Ψ ―è –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –ê ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ βÄ™ –±–Β–Ζ –Β–≥–Ψ ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Φ–Ψ―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Φ–Ψ―è –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α. –‰ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β–Φ ―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β –Β–Φ―É. –ê –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –î–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α 19 –Φ–Α―Ä―²–Α ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –ö–Α―Ä–Β–Ϋ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–Β–Φ–Β, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―΄–Ϋ–Β.
 –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€―ç―²―Ä–Α –°―Ä–Η―è –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–≤–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –±―É–¥–Β―² –Η –Ψ –ö–Α―Ä–Β–Ϋ–Β. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ βÄî –ö–Α―Ä–Β–Ϋ –ü–Β―²–Ψ―è–Ϋ!
–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€―ç―²―Ä–Α –°―Ä–Η―è –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–≤–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –±―É–¥–Β―² –Η –Ψ –ö–Α―Ä–Β–Ϋ–Β. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ βÄî –ö–Α―Ä–Β–Ϋ –ü–Β―²–Ψ―è–Ϋ!
–≠―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ, –Η–¥–Β–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α βÄ™ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β–Ε–Η―² –Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –ü–†–û-125. –ü–£–û, –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α―é―â–Β–Ι –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –£–Η–¥―è–Β–≤–Ψ. –ê –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Β βÄ™ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η: –¥–Ϋ―ë–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –≤ –¥–Ψ–Ε–¥―¨ –Η ―¹–Ϋ–Β–≥, –≤ –Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥, –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β –±–Β–≥–Ψ–Φ –Ψ―² –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ –¥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―² 800 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –≤ –≥–Ψ―Ä―É, –¥–Α –Β―â―ë –Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≥–Α–Ζ–Β¬Μ. –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Β ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Ϋ–Η–Β.
–ü–Ψ–¥ ―¹–Ψ―¹–Ϋ–Ψ―é, –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ―é
–Γ–Ω–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β –≤―΄ –Φ–Β–Ϋ―èβÄΠ
–ù–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, –≤―¹―ë –Ε–Β, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨: –Β―â―ë –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –Μ–Β―² ―ç―²–Α–ΚβÄΠ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ψ ―΅―ë–Φ ―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―ç―²–Ψ―² ―¹―é–Ε–Β―² ―è –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –¥–Μ―è –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄ βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α–Φ –Ψ ―¹–Β–±–Β –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –Μ–Η―Ü–Β (–Α–≤―²–Ψ–±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è ―¹ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η)¬Μ.
–‰―²–Α–Κ, –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –≤―Ä―É―΅–Α–Β―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ –±―΄–Μ –Η ―è, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Α―é ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Θ–Κ–Α–Ζ–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Α, –Β―â–Β –Ω–Ψ ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²―É¬Μ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –ë–Ψ―Ä―è –ß–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η –ö―Ä–Η―²―Ü–Κ–Η–Ι (–Η–Φ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –¥–Α –Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η―¹–Κ–Α–Ζ–Η–Μ: ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ). –î–Η–Ζ–Β–Μ–Η―¹―²―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü―É –Γ–®–ê ¬Ϊ–≠–Ϋ―²–Β―Ä–Ω―Ä–Α–Ι–Ζ¬Μ –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Β–≥–Ψ –≤–Μ–Α–¥―΄―΅–Β―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É ―ç―²–Α –Κ–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Α, –Ψ–Ϋ ―É–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ―¹–≤–Ψ―è―¹–Η. –· –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Β–Φ―É ―ç―²―É –Ϋ–Β―É―é―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Α–Μ–Β–Β, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―è –Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ψ―² –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η (―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –Ψ―² –Ψ–Κ–Α–Ι–Φ–Μ―è―é―â–Η―Ö ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤) –¥–Ψ –Γ–Α–Ϋ –î–Η–Β–≥–Ψ. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ βÄî –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤―΄―à–Β –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Η. –‰ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –¥―É–Φ–Α–Μ –Μ–Η ―è ―²–Ψ–≥–¥–Α, ―΅―²–Ψ ―è –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –±―É–¥―É –≤―΄―à–Α–≥–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Γ–Α–Ϋ –î–Η–Β–≥–Β¬Μ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–Φ 46-–≥–Ψ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ¬Ϊ―²―É―¹–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è¬Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β ¬Ϊ–≠–Ϋ―²–Β―Ä–Ω―Ä–Α–Ι–Ζ¬Μ, –ê –Η–Ζ –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ψ–Ψ–Ω–Α―Ä–Κ–Α ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ―É ―¹–Β–±–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ ―ë–Ε–Η–Κ–Α. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Μ―é―à–Β–≤–Ψ–≥–Ψ βÄ™ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Η―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ε–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ–Β―Ü.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, ―è –Ψ–±–Ψ―à―ë–Μ –Ψ―²–¥–Β–Μ―΄ –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –®―²–Α–±–Α –Δ–û–Λ, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―è –≤ –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Ι ―É–Ε–Η–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –Η―Ö ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Ι ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–¥, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Β –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α―Ö –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –±–Μ–Α–≥–Ψ –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹―΄ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ϋ–Α–¥–±–Α–≤–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η. –ü―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Κ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Μ–Η―à―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ―² –£–Α–Μ―¨–Κ–Η –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―²–Α–Κ, –Η–Ζ –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ–≤ –≤ –Κ–Η―²–Β–Μ―è―Ö?¬Μ. –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Η―²–Β–Μ―è –Β―â―ë ―΅―²–Η–Μ–Η: –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –±―Ä―΄–Ζ–≥–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α ―à–Η–≤–Ψ―Ä–Ψ―², –¥–Α –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ –Ϋ–Α–Φ–Ψ―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΅–Α―²―΄–Ι –≤–Α–Μ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è. –ü–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Η―²–Β–Μ―é –¥–Α–Ε–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ, ―¹―ä―è–Ζ–≤–Η–Μ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―² ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―à–Α–Ϋ–Ψ–≤. –î–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ: –Η –¥–Ψ –Κ–Η―²–Β–Μ―è, –Η –¥–ΨβÄΠ―¹ –Κ–Β–Φ ―¹–Ω–Η―² –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –±―É―Ö―²―΄ –Γ–Β–Μ―¨–¥–Β–≤–Ψ–Ι –Η –≤―¹–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Μ–Β–Ε–Α―â–Β–Ι –Κ –Ϋ–Β–Ι –ê–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–ΗβÄΠ –‰ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä–≥–Α–Μ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –£–Μ–Α―¹―²―¨!!!
 –£–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Α –ê―Ä―²―é―à–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Β–Φ―É –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–Μ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ö–Ψ–Μ―΅–Α–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ. –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―². –£–Ψ―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–£–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Α –ê―Ä―²―é―à–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Β–Φ―É –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–Μ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ö–Ψ–Μ―΅–Α–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ. –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―². –£–Ψ―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Α –Φ―΄ ―¹ –°―Ä–Κ–Ψ–Ι –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ê –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç―²–Η–Φ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ê –≥–¥–Β –Η―Ö –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö. –ë–Μ–Α–≥–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η. –ù–Α ¬Ϊ–Μ–Η–Κ–±–Β–Ζ–Β¬Μ, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–≤―É―Ö―è―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Ι–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ 51 –Θ–û–ü–ü`–Β (–Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Ϋ–Α―à–Β –Δ–û–£–£–€–Θ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ). –‰ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ―²–Ϋ–Β–Ι ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Β–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―é¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –·–Ι–Μ–Ψ. –û –Ϋ―ë–Φ –±―É–¥–Β―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Η―²–Ϋ–Ψ–Φ, ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–Φ, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Φ ―¹ –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι –Η ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Φ –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Α―Ö –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –ü ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –±―É―Ö―²―΄ ¬Ϊ–ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ βÄ™ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Φ–Ψ―è –Φ–Α–Φ–Α, –î–Ψ–Φ–Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α. –‰ ―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―¹ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―²: –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Κ–Α–Κ –Η –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ βÄ™ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –·–Ι–Μ–Ψ–Ι –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –¥–Η–Κ―²–Ψ―³–Ψ–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹―²–Η―Ö–Η –Ψ –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η, –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―΄ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Ψ―²―Ü―É βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ü–¦ ¬Ϊ–€-46¬Μ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Β―ë –ë–ß-V –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―é –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤―É, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è –Η―Ö –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―ë ―¹–Μ―É–Ε–±–Β.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é ¬ΪGβÄΠ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΄ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β―΅–Β―². –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –·–Ι–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤―ë–Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―à–Η―²―É―é –Η ―¹–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹―É―Ä–≥―É―΅–Ψ–Φ ―²–Β―²―Ä–Α–¥―¨, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α–Φ βÄ™¬Ϊ―à–Κ–Ψ–Μ―è―Ä–Α–Φ¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Ψ―¹–Ω–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ê –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ (!) ―¹ –Ω–Α―³–Ψ―¹–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Β–Κ–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ω–Ψ ―¹―É–±–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Φ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤¬Μ. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Κ–Α: ¬Ϊ–£―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η―²–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α. –î–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –£–Α–Φ ―¹―É―²–Ψ–Κ –Α―Ä–Β―¹―²–Α –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω–Α–Ω–Β βÄ™ ¬Ϊ–ü―Ä–Η–≤–Β―²!¬Μ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η―Ä―²―É–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―¹ –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ.
–£―¹―ë –Ε–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è, –Φ―΄ ―¹ –°―Ä–Κ–Ψ–Ι –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, ―΅–Β–Φ –Β―Ö–Α―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―É–≤–Β―¹–Β–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄ™ ¬Ϊ–Ζ–Μ–Α―΅–Ϋ―΄–Φ¬Μ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –ü―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨βÄΠ, –Ω―Ä–Η―Ö–≤–Α―²–Η–≤ –Η–Ζ ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–≥–Α¬Μ –±―É―²―΄–Μ–Κ―É –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ–Α –Η ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Κ―É –¥–Μ―è –Δ–Α―²–Κ–Η βÄ™ –°―Ä–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―΄. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Μ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―²–Α–Κ―¹–Η. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Η―ë ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―² –ö–Ψ–Μ―è (―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ, –Α –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é!). –½–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η –±―É―²―΄–Μ–Κ―É –Ψ–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Η –Ζ–Α–Κ―É―¹–Η–Μ–Η –Δ–Α―²–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι, –±–Μ–Α–≥–Ψ ―É –ö–Ψ–Μ–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–Κ. –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥–Β –¥–Ψ–Φ–Α, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è, 17, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Φ–Ψ–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –ü–Α–Φ―è―²–Η: –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η–Μ–Α―Ö –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Β―²–Κ–Α βÄ™ –Ζ–Α―Ä―É–±–Κ–Α –Ψ―² –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Α―à–Α. –î–Α, –Η –¥–Β―²–Β–Ι –Φ–Ψ–Η―Ö βÄ™ –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à―É –Η –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η ―¹―é–¥–Α –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–¥–Ψ–Φ–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι.
–ö–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β: –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ ―²–Α–Κ―¹–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Η–Ζ –≤–Η–¥–Α: –Η ―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –ü–Ψ –Ω―É―²–Η –Ω–Α―Ä―É ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Η–Μ―¹―èβÄΠ –≤–¥―Ä―É–≥, –Η –Ϋ–Η ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Η –Ϋ–Η ―¹ ―΅–Β–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Φ―è–≥–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Α―¹―³–Α–Μ―¨―²–Α. –ü―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―²―É―² –Ε–Β, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ψ―â―É–Ω―΄–≤–Α―é –Ω–Ψ–¥ –Ω–Μ–Α―â-–Ω–Α–Μ―¨―²–Ψ–Φ: –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –Μ–Η –û―Ä–¥–Β–Ϋ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–ΗβÄΠ –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ –Ω―É―²―¨. –ü–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹ –°―Ä–Κ–Ψ–Ι –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―².–Β. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è, –¥–Ψ–Φ 17. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ε. –ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ. –î–≤–Β―Ä―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α –½–Η–Ϋ–Α–Η–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –Φ–Α–Φ–Α –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α–±–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–≤―à–Η–Β –Φ–Ψ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Η –Ω–Ψ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Β–¥–Ψ–Μ–Α–≥–Β, ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ. –û―²–Ω–Ψ–Η–Μ–Η ―΅–Α–Β–Φ –≤–Ω―Ä–Η–Κ―É―¹–Κ―É ―¹ –Η–Ϋ–¥–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ϋ–Α–¥–Ψ–±―¨–Β–Φ ¬Ϊsedalgin¬Μ. –ù–Α–¥–Ψ-―²–Α–Κ–Η, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄ™ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Α―Ä–Α―². –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―É―²―Ä―É ―è –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ß―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –®―²–Α–±–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Β–≥–Ψ ―³–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―²–Α–Φ. –Δ–Α–Κ, –°―Ä–Η–Ι –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Η–¥―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―É–Ϋ–Η―²–Α–Ζ–Β, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―É―Ö–Ψ–Φ –Κ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι ―²―Ä―É–±–Β –¥–Μ―è ―¹―É―à–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Β–Ϋ–Β―Ü, ―²–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Α–Μ –¥–Ψ ―É―²―Ä–Α. –î–Ψ–Φ–Α ―É –°―Ä―΄ ―Ü–Α―Ä–Η–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ϋ. –‰ –≤ –®―²–Α–± –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ψ–Ϋ ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É―Ö–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² ¬Ϊ–î―É–±¬Μ –Η–Ζ –Κ/―³ ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –®―É―Ä–Η–Κ–Α –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Α–Κ―²―ë―Ä–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Α. –®―²–Α–± –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Β―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Φ: –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄, –Η–Φ–Β―è –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –ü―ë―Ä–Μ –Ξ–Α―Ä–±–Ψ―Ä, –Α ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄ βÄ™ –≥–Ψ–Μ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ψ―²―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –¦–Ψ–Ω–Α―²–Κ–Η (–Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α). –≠―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―à–Α–Ϋ―¹. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Μ–Β―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―è –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―É ¬Ϊ–½–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²―É―è ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α Jean-Marie Mathey: ¬ΪCherchez la femme¬Μ, βÄ™ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –™–Β―Ä–Ψ―è. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ.
–£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –≥–Μ–Α–≤ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η ―è –Β―â―ë –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹–Α–Φ. –£―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ –ë–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
(–Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α)
|
|
4. –Γ–Η–Μ–Α –¥―É―Ö–Α
| |
–ï―¹–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö –≥–Μ–Α–≤ ―è –Ψ―²―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –Μ–Ψ―Ä–¥–Α –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―ç–Φ―΄ ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –ß–Α–Η–Μ―¨–¥ –™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α, ―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―è –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ–Ψ –¦―¨–≤―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅―É –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Φ―É, –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Η –€–Η―Ä¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–±―â–Β–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ψ –Μ–Β–Ε–Η―² –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄.
–‰―²–Α–Κ, –¦–Β–≤ –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι:
¬Ϊ–î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ (–ö―É―²―É–Ζ–Ψ–≤) –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―¹―²–Α―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―É–Φ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è–Φ–Η ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –±–Ψ―Ä―é―â–Η―Ö―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―à–Α―é―² ―É―΅–Α―¹―²―¨ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è―² –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―É―à–Β–Κ –Η ―É–±–Η―²―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Α ―²–Α –Ϋ–Β―É–Μ–Ψ–≤–Η–Φ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è –¥―É―Ö–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–ΑβÄΠ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Β―é, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²–Η¬Μ.
–¦–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –û–Φ–Α―Ä–Α –Ξ–Α–Ι―è–Φ–Α:
¬Ϊ–Θ–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –¥―É―Ö–Ψ–Φ –≥–Η–±–Ϋ–Β―² ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α¬Μ.
–‰ –Β―â―ë. –‰–Ζ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β:
¬ΪβÄΠ–Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≠―Ä–≤–Η–Ϋ–Ψ–Φ –†–Ψ–Φ–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Α¬Μ.
–£ ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β ―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Η ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥―É―Ö. –ù–Ψ, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―¹–Μ–Η–≤, –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Η ¬Ϊ–ï–Ε–Η–Κ–ΗβÄΠ¬Μ –Ψ–Ϋ–Η, ―ç―²–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Η―²―¨―é. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―ç―²―É –Η–¥–Β―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―è –≤―΄–Ϋ–Α―à–Η–≤–Α―é ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Α, ―¹–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨.
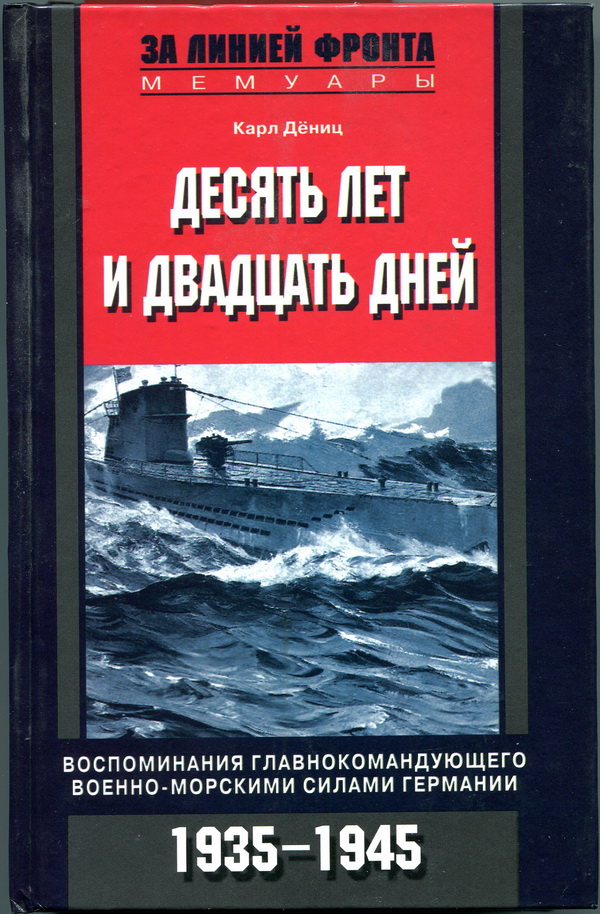 –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―¹―¹-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Μ–Α –î―ë–Ϋ–Η―Ü–Α –Η –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Ψ–Φ c–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –®–Α―É―Ä–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¨¬Μ, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ--―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α―Ö.
–ù–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―¹―¹-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Μ–Α –î―ë–Ϋ–Η―Ü–Α –Η –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Ψ–Φ c–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –®–Α―É―Ä–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¨¬Μ, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ--―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α―Ö.
 –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―â–Β–Β βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄βÄ™–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η.
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –≤ ―²–Β–Κ―¹―² –Η –≤–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ –≤ ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Α –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ (–Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤―¹―ë ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α, –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β). –‰ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β―¹―¨ βÄ™ –Κ ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?
–ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―â–Β–Β βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄βÄ™–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η.
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –≤ ―²–Β–Κ―¹―² –Η –≤–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ –≤ ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Α –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ (–Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤―¹―ë ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α, –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β). –‰ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β―¹―¨ βÄ™ –Κ ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?
–ö–Α―Ä–Μ –î―ë–Ϋ–Β―Ü:
¬Ϊ–€–Β–Ϋ―è –Φ–Α–Ϋ–Η–Μ–Α ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Ζ–Α–≤–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Β–≥–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄, ―²–Α―è―â–Η–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ–Β...¬Μ
–½–¥–Β―¹―¨ ―è –Ω―Ä–Β―Ä–≤―É –≥―Ä–Ψ―¹―¹-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–Φ βÄ™ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ –†–Ψ–±–Β―Ä―²–Ψ–Φ –Λ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ:
–ù―Ä–Α–≤ ―É –Μ―é–¥–Β–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι.
–‰–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―¹–Κ–Β –Ϋ–Β –Μ–Β–Ϋ―¨
–ö –±–Β―Ä–Β–≥―É ―¹–Β―¹―²―¨ ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι,
–£ –Φ–Ψ―Ä–Β –≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –≤–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨
–ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ
–Δ–Α–Φ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ―è–Β―² –≤–Η–¥,
–ü–Ψ―Ä–Ψ―é –≤–Ψ–¥―΄ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ
–ß–Α–Ι–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Η–≥ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―².
–ë–Β―Ä–Β–≥ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι,
–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ ―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―².
–ù–Ψ –±―¨―ë―² –Ψ –Ω–Β―¹–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–±–Ψ–Ι
–‰ –Μ―é–¥–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≥–Μ―è–¥―è―².
–ù–Β –≤–Η–¥―è―² –Ψ–Ϋ–Η –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ,
–ù–Β –≤–Η–¥―è―² –Ψ–Ϋ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ,
–ù–Ψ ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –±–Β―¹―¹–Η–Μ–Β–Ϋ –Η―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥,
–û–Ϋ–Η –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –≥–Μ―è–¥―è―².
–‰ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ ―²–Β–Φ―É: –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―é ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι –î–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―è, –Φ–Α–Μ―΄―à, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α―É―΅–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η –≤―΄–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥―è –Μ―É–Ε―É, ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë ―Ä―É―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι: ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Β!¬Μ
 –€–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Φ–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Ϋ–Α, –≤–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―Ä―É―΅–Κ―É –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Ϋ–Β―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Β ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ―É, ―²–Ψ―² ―¹ ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ï―¹–Μ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤―¹―ë ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –¥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–¥―ë―² –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Κ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –±―É–¥–Β―² –Η –Ψ –Ϋ―ë–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β.
–€–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Φ–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Ϋ–Α, –≤–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―Ä―É―΅–Κ―É –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Ϋ–Β―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Β ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ―É, ―²–Ψ―² ―¹ ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ï―¹–Μ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤―¹―ë ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –¥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–¥―ë―² –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Κ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –±―É–¥–Β―² –Η –Ψ –Ϋ―ë–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β.
–ù–Ψ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ―é –ö–Α―Ä–Μ―É –î―ë–Ϋ–Β―Ü―É: ¬Ϊ–€–Β–Ϋ―è –Φ–Α–Ϋ–Η–Μ–Α ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Ζ–Α–≤–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Β–≥–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄, ―²–Α―è―â–Η–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ–Β, ―Ö–Ψ―²―è ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ. –€–Β–Ϋ―è –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ–Α ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ü–Α―Ä―è―â–Α―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Β–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Β―² –Ζ–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β–Φ―É –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι, ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±–Β –±–Ψ–≥–Α―΅–Β –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι –Η –Ϋ–Η –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Φ–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ¬Μ.
–ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Γ–Α―à–Η –®–Α―É―Ä–Ψ–≤–Α, ―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–¥―Ä–Β―¹ ―¹–Α–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –®–Α―É―Ä–Ψ–≤ <–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β―É―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ(―¹–Ψ–±–Α―΅–Κ–Α)―è–Ϋ–¥–Β–Κ―¹.―Ä―É>
 –‰ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: "–ö ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?"
–‰ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: "–ö ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?"
–î–Α, –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –Γ–Α–Φ–Ψ–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è, ―¹–Φ–Β―Ö βÄ™ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Η. –‰ ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –€–Η―Ä–Α –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ ―΅―ë–Φ-―²–ΨβÄΠ –Η –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―².
¬Ϊ–£ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤ ―à–Μ–Η –Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨¬Μ βÄ™ –≠―²–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –Η–Ζ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ü–Η–Κ―É–Μ―è, –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α¬Μ –· –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Μ―¹―è –±―΄ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ 25-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η, –¥–Α –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β, –Ω–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –±―΄―²―¨ ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η.
–ù–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-66¬Μ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä –≤ VI, ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β. –†–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ ¬Ϊ–Ζ―É–±–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö¬Μ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–≤.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –¥―Ä―É–≥–Α―èβÄΠ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Η–Ζ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Μ–Ψ–±–±–Η¬Μ. –£ –Ϋ–Β–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η ―²–Ψ―¹―² –Ζ–Α ¬Ϊ–≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε¬Μ. –ù–ΨβÄΠ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ: ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, ―².–Β. –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ϋ―è―²―¨ ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―ç―²–Ψ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É¬Μ, –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –†―è–±–Ψ–≤―É βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ¬Ϊ–ù–Γ–Γ¬Μ(–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β) –Ψ―² –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –ê ―¹ –£–Α―¹–Η –™–Ψ―Ä–±–Α―Ä―Ü–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V ¬Ϊ–Κ–Α–Κ ―¹ –≥―É―¹―è –≤–Ψ–¥–Α¬Μ: ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ¬Ϊ―΅–Β―¹―²―¨ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ―²–Α―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―΄―΅–Α–≥–Η. –ß―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –£–Α―¹–Β –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –ù.–ë.–ß–Η―¹―²―è–Α–Ψ–≤ –Η –·.–‰. –ö―Ä–Η–≤–Ψ―Ä―É―΅–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Β –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―¹–Μ–Β―²–Α―²―¨ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―ë–Φ –Κ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ω–Μ–Α–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β. –‰ ―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―¹ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-31¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–Θ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α, ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–≤–Α ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α. –ê ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ ―²–Α–Φ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι ―²―ë–Ζ–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ. –ù–Η –Ω―Ä–Ψ–±―΄–≤ –Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –≤–Α–Κ–Α–Ϋ―²–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α―Ö, –Α –Β―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η –Β―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Ψ―² –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ε–Β: ―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ (–≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ βÄ™ –ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ)
–ê –≤ 1970 –≥–Ψ–¥―É –≤ –ë–Η―¹–Κ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Β―²―¹―è –Η ―²–Ψ–Ϋ–Β―² –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-8¬Μ. –≠―²–Ψ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ¬Ϊ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β¬Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Β–Μ–Η: –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β―²–Η. –£–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ―Ä―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α.
–Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α-–Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι ―¹―É–Φ–Φ–Α―Ä–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Ζ―É –Ψ–±–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Ψ―²―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ê–ü–¦, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Ζ―É, –Φ―΄, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é, ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α–Μ–Κ–Β. –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―é, –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―Ü–Α–Φ–Η, ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α―Ö. –ß–Β–Φ –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨. –‰ ―ç―²–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ―Ä–Α–Ι –Η –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à–Ψ–≤–Η–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –≤ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ, –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η. –î–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –±–Β―Ä―ë―² ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α –ù. –®–Ψ–≤–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Α.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–Γ-335¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Η–Φ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≠–€ ¬Ϊ–£―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Κ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É –Η–Ζ –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α –Ϋ–Α –ê–Φ―É―Ä–Β –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –·, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-I-IV –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―é―²–Β (–Κ–Ψ―Ä–Φ–Β) –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Β ―Ä–Β–Μ―¨―¹―΄ –¥–Μ―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Μ–Β–Ε–Β–Κ, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Α –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ–Η: ¬Ϊ–û! –Θ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α!¬Μ (–ö–Α–Κ ―²―É―² –Ϋ–Β ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à–Ψ–≤–Η–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α!!!)
–≠―²–Α –Ϋ–Α―¹–Ω–Β―Ö ―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤: –Ω–Ψ –ê–Φ―É―Ä―É ―à–Μ–Η –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β –≤ –Ω–Μ–Α–≤ –¥–Ψ–Κ–Α―Ö. –ê –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ζ–Α –≠–€ –≤ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Β.
–ü–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –€–Β–Ϋ―¨―à–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –Ψ―² –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ ―É–Ζ–Κ–Η–Φ, –≤―΄―¹–Ψ―²–Ψ–Ι ―¹ –Φ–Β―²―Ä-–Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α, –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Ψ–Φ. –ï–≥–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Α, –Φ–Α–Μ–Α―è –≤―΄―¹–Ψ―²–Α, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ .
–ü―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É, ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Α. –·, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ―É: ¬Ϊ–î–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–£–Β–¥–Η¬Μ (–ö―É―Ä―¹ –≤–Β–¥–Β―² –Κ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η). –≠―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü, –Κ–Α–Κ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ ―¹–¥―É–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α, –Η –Ψ–Ϋ –Μ―ë–≥ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Ι –Κ―É―Ä―¹. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ βÄ™ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―è, ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä–Α 613 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―É–Ζ―Ä–Β–Μ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –≤―Ö–Ψ–¥? –î–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β ―è –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ―É –Β–Ζ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Ψ―¹–Η–Ω–Β–¥–Β –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―É β³•4 ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Α ¬Ϊ–½–Α–≤–Β―²―΄ –‰–Μ―¨–Η―΅–Α¬Μ, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Α―¹, ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η ―²―É–¥–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±―É―Ö―²―É –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β. –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β: –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –€–Β–Ϋ―¨―à–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Ψ–Φ –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α ―¹–Κ–Α–Μ–Α–Φ–Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –≤ ―²–Β, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Β, ―¹–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–€-46¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α. –· –Ω–Η―à―É ¬Ϊ―¹–Β–Μ–Α¬Μ, –Α –Ϋ–Β ¬Ϊ―¹–Η–¥–Β–Μ–Α¬Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-V ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–Γ.–Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄ™ –Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨¬Μ. –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―¹―É―à–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥―É–Μ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ϋ–Α–Μ–Η, –Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η–Ϋ―Ü–Η–¥–Β–Ϋ―²–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Η –Ζ–Α–±―΄―²―¨. –ù–Ψ –≤ 90-–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Β―â―ë –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ―² –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΅–Η–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –±―É―Ö―²–Ψ–Ι –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η, –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―΅―¨–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―² –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –€–Β–Ϋ―¨―à–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –î–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ –ü–¦ ¬Ϊ–€-15¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –‰,–¦.
–ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –Γ–Μ―É–Ε–±―É –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Η–¥―É―², –Α –Η―Ö –Ε―ë–Ϋ―΄ –Η –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ü―΄ –Η –Φ―É–Ε―¨―è ―¹–Μ―É–Ε–Α―² –≤βÄ€–ü–û–î–†–ê–½–î–ï–¦–ï–ù–‰–·–Ξ –û–Γ–û–ë–û–™–û –†–‰–Γ–ö–êβÄù. –ö–Α–Κ –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É. –Γ―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –ù.–ö.–€–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α –Η –ê.–€.–ö–Α―É―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –Η―Ö –¥–Β–Μ–Α. –Π–Β–Μ―΄–Ι ―Ä―è–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –Η –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹, ―¹―΄–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ –ë.–ê.–ö–Ψ―²–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ. –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ –€–Α―²–Η–≥―É–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–±―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Β―è–¥―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤: ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –î–Ε–Α–Φ–Α–Μ–Α –Η –†―É―¹―²–Α–Φ–Α; –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤-–±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –ß–Β―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö: –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –û–Μ–Β–≥–Α –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≥–Ψ―Ä―è. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ –≤―΄―²–≤–Ψ―Ä―è–Μ–Η ―ç―²–Η –±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü―΄ –≤ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄, –¥–Α –Η –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ–Ε–Β.
–ê ―²–Α–Κ–Η―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Γ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –£.–™.–ë–Β―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –ù–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ βÄ™ –Β―¹―²―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ. –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€-46¬Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–Ξ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è (1918βÄ™1941 –≥–≥.) –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –ö–Ψ–≤–Α–Μ―ë–≤–Α –≠―Ä–Η–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α:
¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α
–£ –Φ–Ψ―Ä–Β ―΅–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–Μ–Β―²–Ψ–≤¬Μ
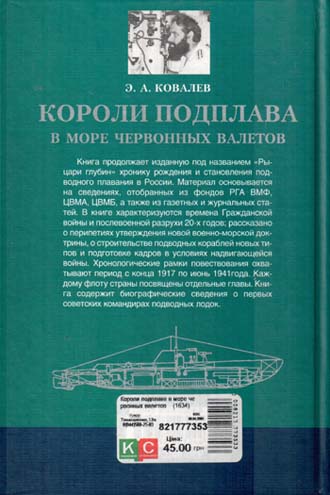 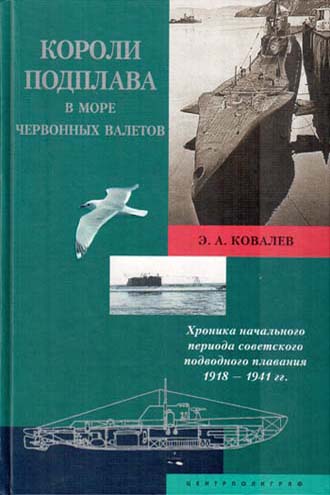
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ε–Β, ―΅―¨–Η –¥–Β―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Η–Φ. –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ βÄ€–ë-90βÄù –ê.–Λ.–™–Μ–Β–±–Ψ–≤ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―²–Ω―Ä―΄―¹–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–±–Β―¹–Κ―Ä―΄–Μ―΄–Φ–Η¬Μ. –¦–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ€–ë-90βÄù –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–±–Β–Ζ―΄–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β –•–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―Ü–Β–≤ –Η –≠.–Δ–Ψ–Μ–Κ―É–Ϋ.
–‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Η–Μ–Η –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Α―é, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è, –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Μ–Β―²–Α―é―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Α―Ä–Η–Α―Ü–Η–Η –Η–Ζ ¬Ϊ–≤–Α―Ä―è–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―²―è¬Μ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―é–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤: ¬Ϊ–€―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―΄βÄΠ ―É–Φ―Ä―ë–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β!¬Μ –ù–Β―², ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–≤–Α–¥–Α, –Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η, –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β. –‰ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Β –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―Ä–Η―¹–Κ–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η - ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ―² –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –€–Α–≥–Ψ–Φ–Β―²–Α –‰–Φ–Α–¥―É―²–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –™–Α–¥–Ε–Η–Β–≤:
¬Ϊ–ù–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≥–¥–Β –≤―¹–Β –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α―é―², –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±–Α―é―²¬Μ.
–ü–Ψ―Ä–Α –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Ψ―² –Η–Ζ–±–Η―²―΄―Ö, ―¹―É―Ö–Η―Ö, ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ, ¬Ϊ–û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è¬Μ, ¬Ϊ–ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―è¬Μ. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è ―É –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―¹―²–Ψ–≤-―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ω–Ψ–Ε–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Α–≤―¹–Β―Ö–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Β–¥―¨–Φ―΄―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –ë–Α–Κ–Μ–Α–Ϋ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Ψ―²―΄ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α, ―É–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η. –î–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ.
–Γ―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤) –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –±―΄–Μ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ë–Α–Κ–Μ–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Α―³–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ―΄. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, ¬Ϊ–£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ ―à―²―΄–Κ βÄ™ –≤–±–Η–Μ –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―ÉβÄΠ–Η –Ϋ–Β ―à–Β–≤–Β–Μ–Η―¹―¨!¬Μ. –‰–Μ–Η –Β―â―ë: ¬Ϊ–†–Α–Ζ–Ψ–Φ–Κ–Ϋ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Η –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–±–Α!¬Μ –Η ―Ü–Β–Μ–Α―è ―²–Η―Ä–Α–¥–Α, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η ¬ΪβÄΠ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Α―è ―¹–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅―¨¬Μ. –û–¥–Ϋ–Η –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä―è βÄ™ –Γ–Μ–Α–≤–Α –½–Α–Φ–Α―Ä–Β–≤ –Η –Δ–Ψ–Μ―è –¦―É―Ü–Κ–Η–Ι, –±―É–¥―É―â–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–¦–Β–≥–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Ι―²–Η ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Β–Η ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Β―â―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Ϋ–Β―ë –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ß―²–Ψ ―è –Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨. –î–Α, –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹―¹―É–¥―¨―²–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è, ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ζ–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Η –Β―¹―²―¨, –Α –Ψ–Ϋ–Η –Β―¹―²―¨, ―²–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η.
–‰–Φ―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–£―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Ω–Ψ–¥―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –Κ –Φ―΄―¹–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, ―É―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Η–Ι –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –≤―¹―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ü–Β–Ω―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –‰–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Η―² –Ψ ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―ë―². –· –Ε–Β –Ω–Η―à―É, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –ü–Α–Φ―è―²–Η –Η –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Β–Ϋ―΄ –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –‰–Φ―ë–Ϋ–Α –Η –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―É―²–Η-–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ―è ―¹–≤–Β―Ä―Ö–Ζ–Α–¥–Α―΅–Η.
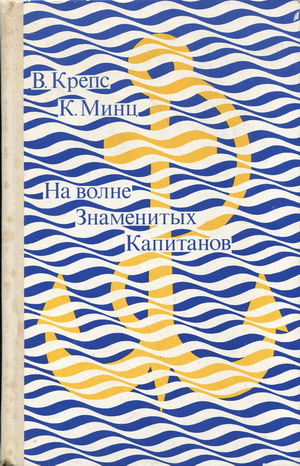 –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Μ―é–¥–Η, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―², –Ζ–Α―â–Η―â–Α–≤―à–Η–Β –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ¬§–Ϋ―΄–Β –Η –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤?! –· –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Β¬§―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ –Η–Φ―ë–Ϋ –Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α―Ö. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ε–Η―²―¨ –≤ –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η. –‰ –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨. –€–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–ΑβÄ™–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–Ι–¥―É―²―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –ö―Ä–Β–Ω―¹―É –Η –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―é –€–Η–Ϋ―Ü―É, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Ι –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―¨–Β―¹ –Η–Ζ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ (–‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ¬Μ), –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β-―Ä–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É―² –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –ê―Ö! –£ –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ―ë―²–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η!!!
–ù–Β–Μ―¨–Ζ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Μ―é–¥–Η, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―², –Ζ–Α―â–Η―â–Α–≤―à–Η–Β –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ¬§–Ϋ―΄–Β –Η –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤?! –· –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Β¬§―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ –Η–Φ―ë–Ϋ –Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α―Ö. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ε–Η―²―¨ –≤ –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η. –‰ –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨. –€–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–ΑβÄ™–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–Ι–¥―É―²―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –ö―Ä–Β–Ω―¹―É –Η –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―é –€–Η–Ϋ―Ü―É, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Ι –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―¨–Β―¹ –Η–Ζ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ (–‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ¬Μ), –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β-―Ä–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É―² –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –ê―Ö! –£ –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ―ë―²–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η!!!
–î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Α―é―²―¹―è –Φ–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β: ¬Ϊ–ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –£―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β―²–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –£―΄ –¥–Α―ë―²–Β –Μ―é–¥―è–Φ –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β. –ö–Ϋ–Η–≥–Η –≤–Β―΅–Ϋ―΄ –Η –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―²–Η―Ä–Α–Ε–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä―É –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ―É―é¬Μ.
–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹―¹―É–¥―¨―²–Β, –Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–Ι―²–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Η, –Ψ―²–Ζ―΄–≤―΄, ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―²–Α–Φ –Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ, –Η ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅―É –£–Α–Φ –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β.
–‰―²–Α–Κ, –≠–€ ¬Ϊ–£―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ. –ù–Α –Ϋ―ë–Φ ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Η –¥―Ä―É–≥ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ–≤–Η―Ä–Η–¥–Α (―à–Κ–Ψ–Μ–Α ⳕ4 –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –Ζ–Α―²–Β–Φ ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²¬Μ, –Δ–û–£–£–€–Θ, –£–û–¦–Γ–û–ö –Η ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ).
–ê ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Α–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α (1940) –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―ç―²–Ψ–Ι –®–Κ–Ψ–Μ―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―² ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è ―²–Β―Ö –Φ–Β―¹―² –≤–Η–¥–Α, –≤ –±―Ä–Η–¥–Ε–Α―Ö ―¹ –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, ―²―΄ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹?. –≠―²–Η–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –ö–Ψ–Μ―è –Γ–≤–Η―Ä–Η–¥–Α. –‰ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Β –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –≤ –£―΄―¹―à–Β–Φ. –€―΄ –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η―Ü―É, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η―Ü―É, –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Κ―É –†–Η–Φ–Φ―É –®–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é. –û–Ϋ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η βÄ™ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α ¬Ϊ–€–Δ–©-92¬Μ, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ '―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–£―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ 56 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. –ê ―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–£–û–¦–Γ–û–ö`–Β¬Μ - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ ―¹ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≥–Η―²–Α―Ü–Η–Η. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –±―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ ―¹ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –£–û–¦–Γ–û–ö`–Α (–£―΄―¹―à–Η–Β –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –ö–Μ–Α―¹―¹―΄), –≥–¥–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Φ―΄ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β.
–ö–Ψ–Μ―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―É –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –€–Β―³–Ψ–¥–Η―΅–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ ¬Ϊ–ö-136¬Μ 629 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –£–€–Λ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Φ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Β–Β –±―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―à―²–Α–±―΄: –Ψ–Ω―΄―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α―Ö, –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α –Κ ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –‰, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―É –Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–™–Α–Ζ-59¬Μ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹ –Θ–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Θ–ê–½–‰–ö¬Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤ ―à―²–Α–± –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η, –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―΄, –¥–Α –Η ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, ―è –Φ–Ψ–≥ –Β–Ζ–¥–Η―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –±–Β–Ζ ―à–Α―³―ë―Ä–Α, –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Κ –≤ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β: –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α-―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è, –Α –Ω―É―²―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ¬Ϊ–ê–≤–Α―΅–Η¬Μ –Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö―¹–Ψ―² –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤–Β―¹―¨ –ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ –Γ–Ω–Β―Ü ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –û―¹–Ψ–±―΄–Φ ―¹–±–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥: –Κ―É–¥–Α –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ ―É–Β―Ö–Α–Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―è ―¹–Ω–Β―Ü–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤ –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β (–≤–Η–¥–Η―²–Β, –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α!) ―¹ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–Φ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ü–Α–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é ―¹–Β–±–Β ―à―É―²–Η―²―¨: ¬Ϊ–£–Β―¹―¨ –£–Α―à –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ, –ü–Β―²―è, –±―΄–Μ –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ, –≥–¥–Β –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α, –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä–≥–Α–Μ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –£–Μ–Α―¹―²―¨¬Μ. –ê –Γ―²–Α―Ä–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―΅ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Ζ–Α–Β―Ö–Α–Μ –≤ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ―É –î–Ψ–Φ–Α –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –£–Β–¥―¨ –ù–Α―à–Α –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―é―â–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β.
–‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―É–¥–Β―² ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ–Γherchez la femme (–Η―â–Η―²–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É)!¬Μ
–€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―è –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–Ε―É –Κ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Η―Ö–Η–Η¬Μ –Η –≤―¹―ë ―΅―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β―é. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–Ε―É –Κ –Ϋ–Β–Ι.
–ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –¥–Ψ 4-5 –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤–Β―Ä―¹–Η–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨βÄΠ –£ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–¥–Η–Η, –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Β–Ι –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ―¹–Κ–≤–Α–Ε–Η–Ϋ―΄ –Η―¹―²–Β–Κ–Α–Β―² –Φ–Α―¹―¹–Α –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è (1 –Α―²–Φ. –Ϋ–Α 1 –Φ–Β―²―Ä ―¹―²–Ψ–Μ–±–Α –≤–Ψ–¥―΄) ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―²―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―è –≤ ―ç–Ω–Η―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –≤ ―ç―²―É ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―ɬΜ, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Ε–Β ―²–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤ –≤–Α–Ϋ–Ϋ–Β ―É –ê―Ä―Ö–Η–Φ–Β–¥–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ, –≥–Ψ–Μ―΄–Ι, –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É ―¹ –Κ―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–≠–≤―Ä–Η–Κ–Α!¬Μ, –Η ―ç―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―²–Ψ–Ϋ―É―²―¨. –ü―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤―¹―ë –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨, –≤ ―΅―ë–Φ –¥–Β–Μ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ ¬ΪSOS¬Μ.
–ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤―¹―ë –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β: –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―É―¹–Ω–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–Α–≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄; –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―Ä―É―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –†―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ―è―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β―² –Ζ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –Η ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Μ–Β–≥–Κ–Α¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ―²―è–Ε–Β–Μ–Α¬Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ψ ―΅―ë–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É –Η ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β―¹―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ―É―é –≤–Α―Ö―²―É, –Α ―ç―²–Ψ βÄ™ ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ. –ü–Ψ ¬Ϊ–≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Φ―É –≤–Ψ–Μ–Β–Η–Ζ―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é¬Μ –Η–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Ψ ―΅―ë–Φ –Φ–Ϋ–Ψ―é ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –‰ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β―¹―è –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –±―Ä–Ψ―¹–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ζ–Ψ―Ä –Ϋ–Α ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α.
–€–Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ ―ç―²–Η―Ö –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö. –û–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –ë–Α–±–Α―è–Ϋ, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –¦―É―¹–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Β ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Α¬Μ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –≥–¥–Β ―è –±―΄–Μ 3 ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β–Ζ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ ―¹ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –±―É―Ö―²―΄ –Δ–Β―²―é―Ö–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―à–Μ–Η ―²―É–¥–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Β –Β–Μ–Β –¥―΄–Φ–Η–Μ―¹―è ―΅―É―²―¨ –≤―΄―à–Β ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Φ–Ψ―Ä―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ, –Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Η–Ζ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Β―΅―²–Ψ βÄ™ –¥―΄–Φ―è―â–Β–Β―¹―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Β –Ϋ–Α –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –°–≥―É, –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Β–¥―Ä –Ω–Ψ–¥ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ ―É–Ε –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄ™ –≤ ―΅―ë–Φ –Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è ―ç―²–Α ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
–ü―Ä–Α–≤ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–ë.–ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η―Ä―É―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β ¬Ϊ–≥–Α―Ä―Ü―É–Ι¬Μ. –£–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―É–¥–Α―Ä–Η―², –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―è –Ψ―¹―΄–Ω–Μ–Β―²―¹―è, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Ϋ–Η–Β!..¬Μ –¦–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è: ―à―ë–Μ –Β–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ. –î–Α, –Κ ―¹–Μ–Ψ–≤―É, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 10 –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –£ ―΅–Β―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –°–±–Η–Μ–Β―è –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –™―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è. –Π–≤–Β―²–Ϋ―É―é –Κ―¹–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Η―é ―É–Ε–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²―É –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥―É –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―É.
–Δ–Α–Κ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ–¥―¹–Ω―É–¥–Ϋ–Ψ, –Η–Ϋ―²―É–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ –Φ–Ψ―ë –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ βÄ™ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―². –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Η ―Ä–Β–≤–Η–Ζ–Η–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ.
–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Η―é ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ, –Η –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö: ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –¥–Ψ―¹―²―É–Ω –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Η―¹–Κ―É, ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η βÄ™ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Φ, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η βÄ™ ―¹ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ; –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –±–Β–Ζ –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü (–Ϋ–Α –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Κ–Α―Ö) –Η –±–Β–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –‰, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Η ―¹–Ϋ―è―²–Η–Η –Κ–Ψ–Ε―É―Ö–Α ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –¥–≤–Α –Κ―Ä–Β–Ω―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Μ―²–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Β, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―à–Η–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―¹–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄. –ë–Ψ–Μ―²―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ―à–Μ―è–Ω–Κ–Α―Ö¬Μ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―é–≤–Β–Μ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Κ–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ. –ê ―ç―²–Ψ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β–Ι ―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―΄–Φ, ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –‰–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –≤–Ψ―² –≤ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Γ–ß–ê–Γ–Δ–¦–‰–£–û–Γ–Δ–§ happy submarine ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –ù–ê–®–ê –¦–û–î–ö–ê –û–ë–ï–†–ï–™–ê–¦–ê –ù–ê–Γ !!!
–ê –±–Ψ–Μ―²―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ βÄ™ ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –Η –Ψ―Ö–Μ–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è. –ë―΄–≤–Α–Β―² –Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Ι –≤ –Ζ–Α―à–Η―²–Ψ–Ι –Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η –Ζ–Μ–Ψ–Ι ―É–Φ―΄―¹–Β–Μ.
–≠―²–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α–Β―² –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η (?!). –Ξ–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ―¹–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β¬Μ.
–ë―΄–≤–Α–Β―² –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³ –¥–Ϋ–Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É–Β―² –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Β―ë ¬Ϊ–¥–Β–≤―è―²―΄–Φ –≤–Α–Μ–Ψ–Φ¬Μ: ―΅―²–Ψ ―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–Γ-286¬Μ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 100 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Μ–Α–¥–Β―² –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –¥–Ψ 30-40 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –½–¥–Β―¹―¨ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ: –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Β―¹–Κ–Α―²―¨ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―² –Η–Ζ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Κ–Ψ–≤, –Α –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤―΄–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ –Η –≤ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―è–Φ–Β ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―¹–Μ–Β–¥―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β ―Ö–Μ–Ψ―Ä ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –≤―΄―²–Β–Κ–Α―é―â–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ϋ ―΅―Ä–Β–≤–Α―² –Β―â–Β –Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―³―É–Ϋ–¥–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―²―è–Ε―ë–Μ―΄―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤, –Κ–Α–Κ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄, –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Β―¹―¹–Ψ―Ä―΄.
–£ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Μ–Η―¹―²―΄ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Α –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η. –ü―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ. –£–Ζ–±―É–¥–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –≤―΄―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Β―² –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η–Ζ ―¹–Β–±―è, –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Β –¥–Α–Β―² –Β–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Μ–Η βÄ™ ―Ä―É–Μ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è. –û―¹―²–Α―ë―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ βÄ™ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α ―É―²―è–Ε–Β–Μ–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Α–¥–Α―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Ζ, ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–¥―É―²―¨ ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―É ¬Ϊ–±―΄―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è¬Μ, –¥–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ω―É–Ζ―΄―Ä―¨¬Μ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α –Η: ¬Ϊ–ü–Ψ―à―ë–Μ –™–û–ù! (–≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ―¹―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹) –Η–Ζ ¬Ϊ―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²!¬Μ. –‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Α―Ä―Ö–Η―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Α ―¹―²–Α –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö ―ç―²–Η –Φ–Β―Ä―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄. –ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ―É –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –½–¥–Β―¹―¨ ―É–Ε–Β –≤―¹―è –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ (–ö–™–î–Θ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ), –Ϋ–Α –Η―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Η―Ä―É―é―â―É―é ―Ä–Β―à–Β―²–Κ―É, –Ϋ–Β –¥–Α–≤ ―ç―²–Η–Φ –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Η―²―¨ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―ë―² –Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β ―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―¹―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―â–Η―²―΄.
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ¬Ϊ–Ψ–Ω–Α―¹–Κ―É¬Μ ―è ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Η–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α―Ö: –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤―΄–Ω–Η–≤―à–Η–Β, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―²―É―Ä–Η―¹―²―΄, –Η –Κ―É―Ä―è―² –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–ΨβÄΠ
–Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―è –‰–Μ―¨–Η―΅–Α –Λ–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η. –£ –Ϋ–Η―Ö –Ψ –£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –î―É―Ö–Β –Η –Ψ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.

–ù–Β―² –≤―΄―à–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, ―΅–Β–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Α–Φ–Η,
–‰ –Ϋ–Β―² –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Φ–Β–Μ–Β–Ι.
–‰ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―²–≤―ë―Ä–Ε–Β –Ω–Ψ―΅–≤―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η,
–ß–Β–Φ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–ü―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ–Η.
–ö―Ä–Β–Ω―΅–Α–Β―² ―à―²–Ψ―Ä–Φ, –Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ ―Ö–Μ–Β―â―É―² –Ζ–Μ–Β–Ι.
–‰ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―²–≤―ë―Ä–Ε–Β –Ω–Ψ―΅–≤―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η,
–ß–Β–Φ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–£ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≥–Μ―É–±―¨ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Ι ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Α–Φ–Η
–‰–¥―ë―² –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α, ―¹–Μ―É―à–Α―è―¹―¨ ―Ä―É–Μ–Β–Ι.
–‰ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―²–≤―ë―Ä–Ε–Β –Ω–Ψ―΅–≤―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η,
–ß–Β–Φ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–Γ–¦–ê–•–ï–ù–ù–ê–· –†–ê–ë–û–Δ–ê –£–Γ–ï–™–û –≠–ö–‰–ü–ê–•–ê –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Β―² –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –≤ –≤–Η–¥–Β ―²–Ψ―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤: ¬Ϊ–ß―²–Ψ–±―΄ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Ι ―Ä–Α–≤–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι!¬Μ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ–± ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö, –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ¬Ϊ–≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö, –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―²–Β―Ö ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ―è.
–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β: –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –ü–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 2 ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è¬Μ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–≤–Β –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―é―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ϋ―ë–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Φ–Ψ–≥ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è: ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –Ξ–Ψ―²―è ―¹ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ ¬Ϊ–¥–Β–Ϋ―¨¬Μ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤―¹―ë –Ω–Β―Ä–Β–Ω―É―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –¥–Μ―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η, ―΅―²–Ψ –Η–¥―ë―² ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É. –Γ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Β –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö―É. –‰―²–Α–Κ, –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Α―è –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―é―é, ―²–Α–Κ –Η –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ―é―é ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â―É―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–±–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –€–Ψ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―²–Β―΅―ë―² –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β–Φ–Ψ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ–Η –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―² –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ –Ψ–± –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β –Η―Ö, –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö, –Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η βÄ™ –Β―â―ë –Η –Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Α –Κ–Α–Ε―É―â–Α―è―¹―è –±–Β–Ζ–Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β.
–‰ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α–Φ ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–≤–Β―¹―ë–Μ–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ (–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –¥–Α –Η –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –î–Α–Ϋ–Η–Μ―΄―΅). –£ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―ç―²–Η–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι, –¥―É–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―à–Ψ–Κ ―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Φ –¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β–Ε–Β–≤―΄–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Ψ–≤, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ω–Β―΅―ë–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Α―à―²–Β―²–Ψ–Φ, –Ψ–±–Ε–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹ –Μ―É–Κ–Ψ–Φ. –î–Μ―è –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ ―¹ ―è–±–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Η–Μ–Η ―¹–Μ–Η–≤–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Μ–Ψ–Φ. –‰ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –Ω–Ψ –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ―É, –Α ―²–Ψ –Η –Ω–Ψ –¥–≤–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η ―²–Α–Κ―É―é –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―É: ¬Ϊ–≤–Ζ―è―²―¨ –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Ψ–Κ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Η¬Μ. –ê –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –Ε–Β, ―ç―²–Ψ―² –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Ψ–Κ βÄ™ ―²―É―², –Κ–Α–Κ ―²―É―². –†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ –î–Α–Ϋ–Η–Μ―΄―΅–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥―É―Ö, –Ψ―² –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β –±―Ä–Α–Ϋ–Η (–¦–Β–≤ –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι). –ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –ù.–î. –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―é―Ä―³–Α–Κ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α. –£–Β―¹―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Η–¥: –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥ –¥–≤–Α –Φ–Β―²―Ä–Α, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –±–Β–Ζ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Β―¹―²–≤ –Α―²–Μ–Β―²–Α, –≤–Ϋ―É―à–Α–Μ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Α–Μ―¨―²–Ψ –Η ―à–Α–Ω–Κ―É, –Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Η―²–Ψ–Ι, ¬Ϊ–Α –Μ―è ―Ö―Ä―É―â―ë–≤¬Μ, ―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Κ–Α―¹–Α–Β–Φ―΄–Β¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É ¬Ϊ–≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è―²―¨―¹―è¬Μ –≤ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Α –≤ ―΅–Β–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤ ―²–Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥.
–ù–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―è―¹―¨ –Κ –Κ–Α―¹―¹–Β –ê―ç―Ä–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ë–Η–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β―²!¬Μ, –Ψ–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Α―Ä–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ε–Β ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è ―¹―²–Α―²―É―¹–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–ê –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Α–Φ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α?!¬Μ. –£–Β―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Η–Κ –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Η –±–Η–Μ–Β―² ―²―É―² –Ε–Β –≤―΄–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±―É―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, ―¹–¥–Α–≤ –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É¬Μ, –Η ―É–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, ―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –≤ –Α―ç―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β ―²–Α–Κ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É. –î–Α–Ϋ–Η–Μ―΄―΅ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ö―Ä―É―â―ë–≤–Κ–Β¬Μ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Α–≥–Η–≤–Α–Β―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²–Β―¹–Ϋ―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Κ ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Β ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ –£–Α–¥–Η–Φ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―¹–Ψ–≥–Ϋ―É―²―΄–Ι –Ω–Ψ–¥ ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨―é –¥–≤―É―Ö –≤–Β―¹–Ψ–Φ―΄―Ö ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄: ¬Ϊ–· –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―², ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ¬Μ. –€–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Α, –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Ϋ―ë–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –¥–Α –Β―â―ë –Η ―¹ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Α–Φ–Η
–ë―É–¥―É―΅–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω―²–Η―Ü–Β―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η –≤ –≥. –ê–¥–Μ–Β―Ä–Β (―è –±―΄–Μ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö), –Ψ–Ϋ –Η ―²–Α–Φ –±―΄–Μ –¥―É―à–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤, ―²–Ψ –¥–Μ―è –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β –±―É–¥–Β―² ―¹–Α–Φ –Ζ–Α–Φ. –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Α―É–Ζ–Ψ–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ζ–Α–Μ, ―²–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η.
–ï―â―ë –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É¬Μ –Ω―Ä–Η ―É–±―΄―²–Η–Η –≤ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –Η –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―΄ –ë–ß-V –Φ–Β―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Α –Η ―²–Ψ―² –Μ–Η ―É –Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω–Η–Ω–Κ–Η¬Μ (–Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω–Η–Ω–Κ–Β¬Μ –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Η –Ψ–± –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Β βÄ™ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–ΦβÄΠ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Β―â―ë –±―É–¥–Β―²). –‰―²–Α–Κ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η ¬Ϊ–Φ–Β―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨¬Μ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α ―¹–Ψ ¬Ϊ–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α¬Μ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤ ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 30 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―²: –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–¥–Α–Μ, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ. –ê ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η - ―²–Α–Κ–Α―è –≤–Κ―É―¹–Ϋ―è―²–Η–Ϋ–Α (!!!), –Κ–Α–Κ –≤–Η–Ϋ–Ψ, ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥, –≤–Ψ–±–Μ–Α, ―Ü―΄–Ω–Μ―è―²–Α –≤ ―¹–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Β, –≥–Ψ–≤―è–Ε–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹–Α ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ω―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Κ―Ä–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, ¬Ϊ–Ψ―¹―ë―²―Ä –≤ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Κ―É¬Μ: –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ ―è –≤–Η–¥–Β–Μ ―ç―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤―΄ –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β –Η ―²–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –≤ –ï–Μ–Β―¹–Β–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι (―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Α ―É–Μ. –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ). –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―è, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ - ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ ―¹–≥―É―¹―²–Ψ–Κ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –Θ―¹–Ω–Β―é –Μ–Η ―è –Η―Ö –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –Φ–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥ –Η –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ–Ε–Β (?!)
–ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ―é ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥, ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Α, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² βÄ™ ―¹–Α–Φ–Ψ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Α. –· –Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η –Ψ –Ϋ―ë–Φ –Ε–Β βÄ™ –Ψ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β βÄ™ ―²―Ä―ë―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β.
–Γ―²―Ä–Α―²–Β–≥ ¬Ϊ–ö-171¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ë―Ä―΄―΅–Κ–Ψ–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α –≤ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² ―¹ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –±–Α–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–≥–Ψ –Η –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―à―²–Α–±–Α 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–Μ–Β–≥―É –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―Ä―΄, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –£–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Μ–Β–≥–Α―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β–Φ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –ù–® –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ2/3 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥¬Μ, βÄ™ –Η ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α―Ö―²–Β ¬Ϊ–≤―¹―ë –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ¬Μ. –ê ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Α ―É–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –≤ –¥–Α–Μ–Η –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η–≤ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–¥–Α. –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Α―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ζ–Α ―²―Ä–Η–¥–Β–≤―è―²―¨ –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –ù–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α.
–ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Η, ―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ: ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –£–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ü―Ä–Η―¹―è–≥–Β –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―².
–Δ–Α–Κ ―É–Ε –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹―é–Ε–Β―²–Α, ―³–Α–Κ―²–Α, –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, 5-―²–Η βÄ™ 10-―²–Η –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Η―Ä–Α–Ε ―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―², ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―è –Κ―Ä―É–≥ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –î–Α, –Η –¥–Ψ―²–Ψ―à–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ―¹–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Β–¥―΄¬Μ –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Β―¹―²―¨, –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Η―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥―É―² –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –Δ–Α–Κ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –¥–Β–Μ–Α―è –≤―¹―²–Α–≤–Κ―É –Ψ–± –û–Μ–Β–≥–Β –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –‰–Φ―ë–Ϋ –Η –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι.
–£―¹―è –Η–¥–Β―è ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ –Β―ë –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –î–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ 2 ―΅–Α―¹―²–Η ¬Ϊ–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ¬Μ, –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Β –Β―ë ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η.
¬Ϊ–£ 1980 –≥–Ψ–¥―É –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –û.–ê., –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –î–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α 25-–Ι –î–Η–ü–¦, –Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Φ 45-–Ι –î–Η–ü–¦, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –ö-14 –Β―â―ë –≤ 1966 –≥–Ψ–¥―É. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ―Ä–¥–Β–Β–≤.
–ü–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α: –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹–Ε–Α―²―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ–±―É―΅–Α―²―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Α ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è, –≤ –¥–Ψ–±–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ–Β, –≤ –Ϋ–Α―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Κ―à–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Α―Ö, ―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Ι ―â–Β―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―â–Β–Κ–Α―Ö. –ö–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Ζ–Α–±―΄―²–Α―è –Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²―É―Ö―à–Α―è –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹–Α, –Ω―Ä–Η―¹–Ψ―Ö―à–Α―è –≤ ―É–≥–Μ―É ―Ä―²–Α. –û–Ϋ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –≤ ―à―²–Α–±–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α 20-30 –Φ–Η–Ϋ―É―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –¥–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è βÄî –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ. –‰ ―²–Α–Κ –Φ–Β―¹―è―Ü–Α–Φ–Η...¬Μ (―Ü–Η―³―Ä―΄ –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α: 267 –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η–Ζ 365 –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥ βÄ™ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α).
–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Κ –Ψ–± –û–Μ–Β–≥–Β –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β.
–ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-255¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 671 –†–Δ–€ 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é, –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Μ―ë–¥ –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―².
–ê –≤–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η:
1981 –≥. ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨. –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-255¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 671 –†–Δ–€ 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –£–€–Λ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ―ë–¥–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–Ε―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η (–Κ-―Ä –Κ–Α–Ω. 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤ –£.–£., ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É βÄ™ –¥–Ψ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –ö–î–Η –ü–¦ –Κ-–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –û.–ê., –¥–Α–Μ–Β–Β –ö–Λ–Μ –ü–¦ –≤-–ΑβÄΠβÄΠβÄΠβÄΠ.) –Η–Ζ –±―É―Ö―²―΄ –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α (–≥. –£–Η–Μ―é―΅–Β–Ϋ―¹–Κ) –≤ –≥―É–±―É –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è –¦–Η―Ü–Α (–≥. –½–Α–Ψ–Ζ―ë―Ä―¹–Κ).
–Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –£–€–Λ –Ω–Ψ–¥–Μ―ë–¥–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–Ε―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―². –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ/–ê–Φ―É―Ä–Β ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Η–Φ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ. –£ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –Β―ë –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β ―à―²–Α–±―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Β, –Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Β –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä―É―é―â–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Β―à–Α―é―â–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, ―²–Ψ ―³–Μ–Α–≥ ―¹–Ω–Β―Ü―΄ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Μ–Ψ―à–Α–¥–Κ–Η¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é―² –Ζ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β.
–ù–Ψ, –Α ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ?! –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β.
–ï―â―ë ―Ä–Α–Ζ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Η―²–Η―Ä―É―é ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄: ¬Ϊ...–Ω―Ä–Η ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –≤ –±–Α–Ζ–Β –Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ¬§–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –¥–Ϋ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–ΗβÄΠ¬Μ
–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –•–Β–Ϋ―è –î―É–Κ, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Ϋ―É―Ä–Ψ –±―Ä–Β–¥―É―â–Η―Ö ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α ―É–Ε–Η–Ϋ (–Η ―²–Ψ, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Β): ¬Ϊ–ù―É, ―΅―²–Ψ –£―΄ –Η–¥–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―΄!¬Μ. –ê –Η–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ βÄ™ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –±―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄βÄΠ –ü–Ψ―Ä–Ψ―é, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Η –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²: ¬Ϊ–Λ–Η–Μ―¨–Φ―É –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ!¬Μ. –Ξ–Ψ―²―è, –≤ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Η ―³–Η–Μ―¨–Φ―É¬Μ, ―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –¥–≤–Α-―²―Ä–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Α–Μ–Η. –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ ―è –¥–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Α ―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Η –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ―¹–≤―è―²–Α―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö¬Μ βÄ™ –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α.. ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –¥–Α –±―΄–Μ–Α –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Κ–Α βÄ™ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Φ–Ψ–Ε–Β―² ¬Ϊ–≤―è–Μ–Ψ¬Μ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤–Ψ―²―É–Φ–Β¬Μ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è (―²–Α–Κ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Η–Μ–Η, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Β).
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –≥–Ψ¬§―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ê –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Α―¹―¨ ―à―²–Α–±–Α–Φ–Η: –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, ―ç―¹–Κ–Α–¥¬§―Ä―΄, –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η.
–‰ –≤–Ψ―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―² ―³–Μ–Α–≥ ―¹–Ω–Β―Ü―΄ –Λ–Μ–Ψ―²–Α: –ë–ßβÄ™I, –ë–ßβÄ™II, –ë–ßβÄ™III, –ë–ßβÄ™IV, –ë–ßβÄ™V –Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ βÄ™ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≥–Ψ―²–Ψ¬§–≤–Α, –Κ–Ψ–ΒβÄ™―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –¥–Ψ–¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―²–Α–Κ βÄ™ –Ω–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Α–Φ. –½–Α―²–Β–Φ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–ΜβÄ™–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α: ¬Ϊ–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Φ–Β–¥–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β¬§–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α¬Μ. –½–Α –Ϋ–Η–Φ, –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö, ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ¬Ϊ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ: ¬Ϊ–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ –Κ―Ä–Ψ―¹―¹ 10 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –‰ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–î–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―¹―²―Ä–Α¬§–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è: –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨, –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –¥–Ψ–¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Φ–Β–¥–Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―é –Η –Ω―Ä–Ψ–±–Β¬§–Ε–Α―²―¨ –Κ―Ä–Ψ―¹―¹ 10 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α!!! –£ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–≥―É ―è –Η–Ζ―Ä–Β–Κ–Α–Μ ―²–Α–Κ―É―é ¬Ϊ–Κ―Ä–Α–Φ–Ψ–Μ―É¬Μ: ¬Ϊ–Β―¹–Μ–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω―è―²–Η ―¹―É―²–Ψ–Κ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β ―É―²–Ψ–Ϋ–Β―², ―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É―²–Ψ–Ϋ–Β―²: –≤―¹–Β –Ψ―²―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨.
–ù–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–ΒβÄΠ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α ―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –ë–Γ (–±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β) –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Φ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η –≤ –Θ–Μ–Η―¹―¹–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α 613βÄ™–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η ―²–Ψ –≤ –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –Α ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–ΒβÄ™―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Η ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –≤―΄–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹ ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –ê―³―Ä–Η–Κ–Η. –Δ–Α–Κ–Α―è –≤–Ψ―² –Η―ÖβÄΠ–™–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è! –ê –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β. –‰ –Θ–Μ–Η―¹―¹ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –€–Α–Μ―΄–Φ. –‰, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤βÄ™―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι: ¬Ϊ–£―¹–Β –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Θ–Μ–Η―¹―¹–Α¬Μ. –Γ–Α–Φ –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–Φ¬Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β, –Α –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ßβÄ™2,3.
–‰ –≤–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–ΗβÄΠ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Κ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ―É, ―²–Ψ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é, –Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ βÄ™ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö. –‰ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―É–±―΄–Μ–Ψ. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–≤: ¬Ϊ–‰ –Ϋ–Β―² –Ω―΄–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―΄–Μ―¨ –Ψ―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –Ε–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –±―É–¥–Β―² –Β―â―ë –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η!!! –ê –Φ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β–Φ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―é–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ¬Μ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –ü–¦ ¬Ϊ–ΓβÄ™334¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ III ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –®–Β―Ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ (―¹ ―ç―²–Η–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Β―â―ë –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ), –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä–Β–Κ–Α–Β–Φ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―² ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η, –Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–±―è―²–Ϋ―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α: ¬Ϊ–ê―²―²–Η–Μ–Ψ–Ι¬Μ βÄ™ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –≥―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü–Β–≤ –Η–Ζ –ü―Ä–Β–¥―É―Ä–Α–Μ―¨―è, –≤ IV –≤–Β–Κ–Β –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α―Ö –Η ―É–Ε–Α―¹ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α –≤―¹―é –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É, –Η―²–Α–Κ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―²―è–≥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ ―¹–±–Β–Ε–Α–Μ ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–ΨβÄ™–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄¬Μ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨, ―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ, –Η ¬Ϊ–±–Β–≥–Μ–Β―Ü¬Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ ―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Β–Φ―É –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ ―É–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ ―¹―Ä–Ψ–Κ –¥–Ψ 10 –Μ–Β―². –Γ–¥–Β–Μ–Α–≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Α―É–Ζ―É –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Φ–Β―΅―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –±―΄ ―É–Ε–Β –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ–ΗβÄΠ¬Μ.
–ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Φ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ö-255¬Μ. –‰―²–Α–Κ, –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-255¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 671 –†–Δ–€ 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é, –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Μ―ë–¥ –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―².
–ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β, –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Κ–Η! –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, –Ϋ–Β–±–Ψ―¹–≤–Ψ–¥!
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–¥ –Μ―ë–¥.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄî –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≥―Ä–Ψ–Ζ–Α.
–ü–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α.
–ù–Ψ, –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –°―Ä–Η–Β–Φ –£–Η–Ζ–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄: –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –ü–†–‰–ù–·–Δ–§ –ù–ê –ë–û–†–Δ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α βÄΠβÄΠβÄΠ.. ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ, –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ψ–Ι―²–Η. –Δ―É―² –Ε–Β –≤―²–Ψ―Ä–Α―è, –≤–¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Κ―É: –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Κ–Α: ¬Ϊ–Κ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ who¬Μ (–Κ–Α–Κ, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Μ―é–±–Η–Μ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Ψ―Ä –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü –≤―¹–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤).
–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ –™.–ö. –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-255¬Μ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω–Ψ–¥–Μ―ë–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Δ–û–Λ. –Δ–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ε–Β –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –î–Α, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ―² ―à―²–Α–± –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―΅―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Α–Φ–Η: –±–Ψ―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η ―¹ –Η–Κ―Ä–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Η ―¹ ―²–Ψ―Ä―΅–Α―â–Η–Φ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η –Μ–Η―¹―¨–Η–Φ–Η ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η.
–û–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–Η–Ζ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―΄–Φ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ –¥–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α–Φ–Η 40-45 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –≥–¥–Β, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η―¹–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É –≥―Ä―É–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ.
–î―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β (–Β―â―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è–Φ–Η) –Ϋ–Α―É–Κ–Η βÄ™ –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Α –Η –Μ–Ψ–≥–Η―¹―²–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―Ö–Ψ―Ö–Ψ―΅―É―²―¹―è –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η: –¥–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄.
–£–Β–Ϋ―Ü–Ψ–Φ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –û–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ―è―²–Ψ ―É 45 –î–Η–ü–¦. –î–Α, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ–Η–Ζ–Φ βÄ™ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η¬Μ.
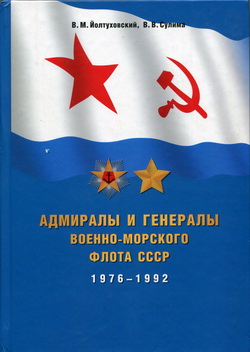 –‰–Φ–Β–Ϋ–Α, –Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –®―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, ―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ. –û–Ϋ–Η, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –Φ–Ϋ–Ψ―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰ ―è –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –≤ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ö―Ä–Β–Ω―¹–Α –Η –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―è –€–Η–Ϋ―Ü–Α (–¥–Α, –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―²–Ψ–Ε–Β) –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –±―΄ –Η–Φ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄..
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –£.–€. –ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –£.–£. –Γ―É–Μ–Η–Φ–Α –Β―¹―²―¨ –Η –Ψ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ 1-―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-255¬Μ ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Γ–Λ. –½–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥. –û–Κ―²―è–±―Ä. –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η¬Μ.
–‰–Φ–Β–Ϋ–Α, –Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –®―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, ―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ. –û–Ϋ–Η, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –Φ–Ϋ–Ψ―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰ ―è –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –≤ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ö―Ä–Β–Ω―¹–Α –Η –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―è –€–Η–Ϋ―Ü–Α (–¥–Α, –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―²–Ψ–Ε–Β) –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –±―΄ –Η–Φ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄..
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –£.–€. –ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –£.–£. –Γ―É–Μ–Η–Φ–Α –Β―¹―²―¨ –Η –Ψ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ 1-―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-255¬Μ ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Γ–Λ. –½–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥. –û–Κ―²―è–±―Ä. –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η¬Μ.
–ü–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Η ¬Ϊ–ü–Η―²–Ψ–Ϋ―΄¬Μ, –Γ–Μ–Α–≤–Α –½–Α–Φ–Ψ―Ä–Β–≤ –Η –Δ–Ψ–Μ―è –¦―É―Ü–Κ–Η–Ι, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ, ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ –Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―²–Η-–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η. –£–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ–Μ―¨–Β –Η–Φ(!!!) –Ω–Ψ –ö―Ä–Β–Ω―¹―É –Η –€–Η–Ϋ―Ü―É –≤ –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Η–Φ―ë–Ϋ, –Ϋ–Β―¹―É―â–Η―Ö –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α –Η―Ö –Ϋ–Β―². –ê –Β―¹–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―É –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–ΑβÄΠ (―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Β –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄: ¬Ϊ–Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Η―à–Β–Φ –Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α―Ö, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è), ―²–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η–Φ–Β―é―² –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Η–Φ―ë–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Μ–Α–Φ–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â.
–ï―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ
–ê –±―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β –≤ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β. –î–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α―²–Β―Ä –Ω–Ψ–¥ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ¬Μ. –£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Η–≥ ―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Κ–Α―²–Β―Ä. –· ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²―É―é. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ―¹―² –Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ¬Ϊ–†–ë¬Μ - ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―²―É―² –Ε–Β –≤ –Π–ü –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α–Β―²―¹―è. –‰ –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ω–Β―Ü ―²―Ä―é–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ V –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―²–Α–Ε ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –≥–¥–Β –Ε–Η–≤–Α―è –¥―É―à–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Β–Ι, ―ç―²–Ψ–Ι –¥―É―à–Β, –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è –Κ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä―É, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―ç―²–Η–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥–Α―é―². –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ß–Α―â–Η–Ϋ –Φ–Η–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä I –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α: –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ V –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α (?!). –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –±―É–¥–Β―² –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.
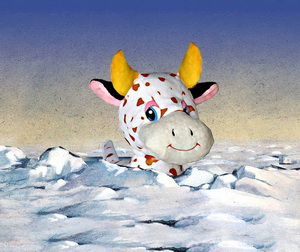 –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É.
–ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É.
–ü–Ψ –Η―¹―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Β―Ö ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ―É―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Μ―ë–Ϋ–Κ–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η –Ϋ–Β –Ω―è―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Α ―à–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥. –‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β. –½―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Γ–Φ–Η―Ä-―Ä-―Ä–Ϋ-–Ϋ–Ψ-–Ψ!¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β. –ö–Α―²–Β―Ä –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―², –¥–Α―ë―² ―Ö–Ψ–¥ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥. –£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹–≤–Η―¹―²–Κ–Ψ–Φ –Η–≥―Ä–Α–Β―² ¬Ϊ–½–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ. –ö–Α―²–Β―Ä ―É–¥–Α–Μ―è–Β―²―¹―è. –· –Η –≤―¹–Β, –Κ―²–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Η: ¬Ϊ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ?!... ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ?!¬Μ, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Μ–Η–≤―΄–Ι, –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–±–Α–Κ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –≤–Η–Μ―è―è ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―Ä–Ψ–≥–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–€―É–Ε–Η–Κ, –¥–Α–Ι –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η―²―¨!¬Μ –‰ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–· –Η ―¹–Α–Φ–Α –Α―É–Β–Μ–Α¬Μ βÄ™ –Η–Ζ –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Α, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –€–Η―à–Β–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ξ―Ä–Α–Φ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ, –Γ–®–ê, –ö–Α–Μ–Η―³–Ψ―Ä–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α 46 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–ê –≤–Ψ―² –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β. –û–Ϋ, –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –≥. –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Β―ë –Ε–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²―΄ –Ψ―² –€–Η―à–Η, –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―²–Β–Φ―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Η ―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β. –‰ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨, ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–Φ: –ü―Ä–Η–≤–Β―² –Β–Φ―É –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è, –Ψ―² ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄.
–û―¹―²–Α–≤–Α―è―¹―¨, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–ΦβÄΠ, –Ϋ–Ψ ―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö ―É–Φ–Ψ–Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι: –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –≤ –Η―Ö ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö, –Φ–Β–Ε–≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Ϋ–Α –≤―΄―¹―à–Β–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Φ–Β–Ε–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―΄–Ϋ―³–Α―Ä–Κ―²–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹―²―Ä–Η–Φ–Α―Ö, –Η–Φ –≤–Β–¥―¨ ―²–Ψ–Ε–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤―¹–Ω–Μ–Β―¹–Κ –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –Η–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―é―² –Η―Ö –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ - ―²–Ψ―² –±–Β–Ζ–≤―΄–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β–Φ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β ―¹ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Α―è –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η βÄ™ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ (–Κ–Α–Κ –±―΄ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤―É) βÄ™ –Ψ―²–Β―Ü –û–Μ–Β–≥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η: –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ (–û–Μ–Β–≥) –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö, –¥–Β–≤―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α (–¥–≤–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α). –ù–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η―Ö. –ù–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ. –ö–Α–Κ –≤ ―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―²―΅–Β βÄ™ ―É –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Ψ–≤ –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β―²–Η –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Η.
 –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–ü. –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –î–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–Η–Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–Ζ–Α –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –£–Ψ―² –Η –ö–Α–Ϋ―Ü–Μ–Β―Ä –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –€–Β―Ä–Κ–Β–Μ―¨ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–ü. –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –î–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–Η–Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–Ζ–Α –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –£–Ψ―² –Η –ö–Α–Ϋ―Ü–Μ–Β―Ä –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –€–Β―Ä–Κ–Β–Μ―¨ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.
–ù–Ψ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Η–Η –Η –Δ–û–£–£–€–Θ –£–Α–Μ―è –ö–Ψ–Ω―¨―ë–≤. –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ 2 –Κ―É―Ä―¹–Α, –Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö 40 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –≤ –Θ–Μ–Η―¹―¹–Β. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤-–Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ψ-–¥–≤―É―Ö-―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β―É―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, ―²–Ψ –£–Α–Μ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –±–Β–Ζ ¬Ϊ–¥–Ψ―É―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. –‰ ―²–Α–Κ, –Ω–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é: ¬Ϊ–£–Α–Μ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Α–≥–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ω–Α–Κ–Α –Ϋ–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ¬Μ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –±―Ä–Α―² –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―¹–Ψ―¹–Α–Μ –Η –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Φ―É―². –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –±―Ä–Α―² βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β ―É –Γ–Α―à–Η –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α, –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –£―¹–Β―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ê–Κ―É–Μ―΄¬Μ, –Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―² –Γ–Β―Ä―ë–Ε–Α –Η –¥–Ψ ¬Ϊ–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α¬Μ –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ―¹―è, –Η –½–≤–Β–Ζ–¥―É –™–Β―Ä–Ψ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Η–Ζ ―Ä―É–Κ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Α.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ö-324¬Μ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –Δ–Β―Ä―ë―Ö–Η–Ϋ –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Α–Μ. –û–Ϋ ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ –ö–Α―Ä–Η–±―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―Ö–Ψ–¥, –Ϋ–Α–Φ–Ψ―²–Α–≤ –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―² –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α. –ê–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ–Α–±–Β–Μ―¨ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ 15-20 –Φ–Φ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –¥–Β–Ι–¥–≤―É–¥ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ –Μ–Η–Ϋ–Η―é –≤–Α–Μ–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨―¹―è –Κ―É–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤ –≤ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Γ–®–ê, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Η–Φ –Η―Ö ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Μ–Η –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Φ–Η–Μ―¨. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ–±―΄―΅–Β–Ι –¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Η ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Ψ―²―Ä―É–±–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–±–Β–Μ―è –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–≤ –Η–Φ –≤–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ϋ–Α–≥–Ϋ–Β―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –¥―Ä–Α–Ι–≤–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä―É―è ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–±–Β–Μ―¨, –Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –≤–Ζ―è―²―¨ –≤ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ¬Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à―É―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –Δ–Β―Ä―ë―Ö–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ¬Ϊ–Κ–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄¬Μ –Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É–±–Κ–Η. –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ë–ß-III βÄ™ –Ζ–Α–Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Β―ë –Κ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―É. –û–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Η –Ψ―¹―²―É–¥–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―΄–Μ. –‰, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –Η–Φ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Κ ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–≤–Α―Ä―É―Ö–Α¬Μ ―É ―¹–Α–Φ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Γ–®–ê, –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―Ä–Η–¥―΄: ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ¬Ϊ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η¬Μ –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–≤ III –€–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –‰ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ¬Ϊ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ω–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–≤ –Β–≥–Ψ –‰–Φ―è –Η –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, ―¹ –ù–Ψ―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η βÄ™ –¥–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―ç―²–Η –¥–Ϋ–Η.
–ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –£–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö: –Λ–Μ–Ψ―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –≤ –€–Η―Ä–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –î–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―¹―²―΄ –Ϋ–Α –î―É–Ϋ–Α–Β, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–≤ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤. –ê ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Η–≥–Φ–Β–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö-―²–Ψ –Η –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Η –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤ –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –≤―΄–Κ―É–Ω, –Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Η―Ä–Α―²–Α–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≥–¥–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ―è―²―¨―¹―è.
–Γ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Φ–Κ–Α–Φ–Η.
–‰βÄΠ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β –≤ 1962 –≥–Ψ–¥―É. –î–≤–Α –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –¥―Ä―É–≥–Α –≤ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Κ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄: ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ βÄ™ –•–Α–Ϋ –ü–Μ–Α–Ϋ –®–Α―Ä –Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü βÄ™ –ê–¥–Α–Μ―¨–±–Β―Ä―² –®–Ϋ–Β–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û―¹–Ψ–±―΄–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Φ–Β–Μ –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η U-2511 βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –†―΄―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ –ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ ―¹ –¥―É–±–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Μ–Η―¹―²―¨―è–Φ–Η –Η –Φ–Β―΅–Α–Φ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –¥–Μ―è –≤―Ä–Α–Ε–¥―΄ –Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Η, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –Η–Φ –≤―¹–Β –Ε–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι ―à–Α–≥ –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―é –Η ―¹―²–Α―²―¨ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η. –≠―²–Η ―è―Ä–Κ–Η–Β, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―΄ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –Η ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β –≤ 1962 –≥–Ψ–¥―É.
–Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―é. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è, –Ϋ–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ ―¹―΅–Η―²–Α―é―²―¹―è –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Α –≤ 2004 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Γ–Δ–û–¦–‰–Π–ï–ô.
–Δ–Α–Κ–Η–Β ―³–Ψ―Ä―É–Φ―΄ βÄ™ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Α―Ü–Η―³–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Β ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι. –Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, 450-500 –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–≤ –Η–Ζ 14 –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤. –û–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Α―²–Η―Ä―É―é―², ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―²―Ä―É–± ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤, –Φ―΄ –≤―¹–Β ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ βÄ™ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β―²–Η –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Η―è –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–≤, –Α –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η –≤―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―à―É–Φ―΄ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –€–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ε–Α―¹―΄ –¥–≤―É―Ö –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Η –¥―Ä―É–Ε–±―΄.
–î―É―Ö –Η –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² –Μ–Α―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β–≤–Η–Ζ, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ê–Κ–≤–Η–Μ–Η–Ϋ–Ψ –ü–Η–≥–Ψ―Ü―Ü–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η –Ζ–≤―É―΅–Η―² ―²–Α–Κ: "–£―¹–Β - –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Α –¥―É―à–Α - –Ζ–Α –Φ–Η―Ä –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Η―Ä–Β!"
–ê –Ω–Ψ–¥―΄―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Γ–®–ê –Λ―Ä–Α–Ϋ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α –†―É–Ζ–≤–Β–Μ―¨―²: ¬Ϊ–½–Α ―΅―²–Ψ ―è –Μ―é–±–Μ―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è ―΅–Β–Ω―É―Ö–Ψ–Ι¬Μ.
–£ –Κ–Ψ–Η –Β―â–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α (!) –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±―Ä–Α―²―¹–Κ―É―é –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β - ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Ε–Β –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è―²―¹―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η "U-250", –Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β―é –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α "–€–û-105". –Γ–Α–Φ–Α –Ε–Β –ü–¦ "U-250" –±―΄–Μ–Α ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ "–€–û-103". –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β, ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―é―² –Ζ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Η –Ζ–Α―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²―΄, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β.
–ö –Φ–Β―¹―²―É –±―É–¥–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–Φ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Η–Φ, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Β–Β―¹―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α ¬Ϊ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹ ―²–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―â–Η―² –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Ψ–Ι. –‰ ―²―É–≥–Ψ –±―΄ –Β–Ι –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨, –Β―¹–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ¬Μ
–‰–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.
 –ù–Α ―ç―²–Η―Ö ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Η–Ζ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Γ–®–ê. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨!!! βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Α.
–ù–Α ―ç―²–Η―Ö ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Η–Ζ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Γ–®–ê. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨!!! βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Α.
–ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Η –≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Β ―¹ –Μ―ë–≥–Κ–Η–Φ ¬Ϊ–¥―É―Ä–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β, –Ζ–Α–Κ–Α―²–Α–≤ ―¹–≤–Ψ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –≤―΄―à–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è Blekli (–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤ ―à–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―é–±–Κ–Β), –Ω―Ä–Η―¹–Β–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Η, –≥―É―¹―¨–Κ–Ψ–Φ, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨, –¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α –¥―Ä―É–Ε–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―³–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ.
–î–Α, ―è –Η ―¹–Α–Φ –≤ –Ψ–±―â–Β―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –≤ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Β–Κ―É―é –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ―É―é ―΅–Β―Ä―²―É –Ψ–±―â–Β–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Η: ¬Ϊ–™–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, ―è ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β βÄ™ –Ϋ–Β –Ω–ΗβÄΠ –¥–Η, –ê–Ϋ―²–Ψ–Η–Η–Ψ–Ψ!¬Μ βÄî –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―â–Η–Ι, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι, ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―². –ß―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨: –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α―Ö! –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ (–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ). –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β βÄ™ nonsense. –î–Α, –Η ―É –Μ–Ψ―Ä–¥–Α –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β –ß–Α–Η–Μ―¨–¥ –™–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α:
¬Ϊ–ê –≤–Ψ―² –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Β―â–Β ―â–Β–Ϋ–Ψ–Κ,
–ù–Ψ, –≤ –¥–Β–Μ–Β ―Ö–≤–Α―²
–‰, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Ζ–Α–≤–Ζ―è―²―΄–Ι,
–ë―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è, –Η–Μ―¨ ―¹–≤–Η―¹―²–Η―²,
–£–Β–¥―è ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²―΄–Ι¬Μ.
–≠―²–Ψ –Μ–Ψ―Ä–¥ –Ψ –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Β, –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±―΄ –Κ―Ä―É―΅–Β.
 –ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Θ―é―Ä–≥–Β–Ϋ –£–Β–±–Β―Ä (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β) –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ζ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬ΪMidday¬Μ.
–ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Θ―é―Ä–≥–Β–Ϋ –£–Β–±–Β―Ä (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β) –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ζ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬ΪMidday¬Μ.
 –ü–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Ε–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Β―², –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Η–Ζ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –™–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –™–Α–Μ–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –Η –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Μ–Ψ―Ä–¥ –±–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Μ―¨–¥-–™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α¬Μ βÄ™ ¬Ϊ–™–¥–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄ™ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ¬Μ.
–ü–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Ε–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Β―², –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Η–Ζ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –™–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –™–Α–Μ–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –Η –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Μ–Ψ―Ä–¥ –±–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Μ―¨–¥-–™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α¬Μ βÄ™ ¬Ϊ–™–¥–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄ™ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ¬Μ.
–≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ζ–¥–Β―¹―¨ βÄ™ –Η –≤ ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Β, –Η –Ω―Ä–Η –±–Α–±–Ψ―΅–Κ–Β. –ê, ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β, ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –≤ –ü–Α―¹―¹–Α―É, –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α, ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –Ϋ–Α―¹, –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –±–Β–Ζ ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Η –Η –±–Α–±–Ψ―΅–Κ–Η –Η ―¹ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ, –¥–Α ―É–Ε –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α. –‰ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι (―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–Ι) –≤–Β―¹―ë–Μ–Ψ―¹―²–Η (―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β) ―¹ –±–Ψ–Κ–Α–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –¥–Β–±–Α―Ä–Κ–Α–¥–Β―Ä–Α, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –Κ–Ψ–Μ―ë―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Α.
–ê –¥–Ϋ―ë–Φ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –†–Α―²―É―à–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥ –½–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ –Γ―²―Ä–Α–Ϋ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι ―¹ ―É–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η βÄ™ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–Ζ―É–Φ–Η―è !!! –‰ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –±―É–¥–Β―² –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–Φ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Β―â―ë βÄΠ –ù–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨ ―ç―²―É –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―é ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä―è―é―â–Β–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.
–™–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤ –Η –ù–Α―Ü–Η–Ι: –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö, –Ψ–Φ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ –≤ –Μ–Β―²–Ψ–Ω–Η―¹―è―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ: ¬ΪVictory¬Μ, ¬ΪCutty Sark¬Μ, ¬ΪDreadnought¬Μ βÄ™ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η―è; –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬ΪU-9¬Μ, –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬ΪBismarck¬Μ; –†–Ψ―¹―¹–Η―è βÄ™ ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ, ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –£―΄–Φ–Ω–Β–Μ¬Μ, ¬Ϊ–ü–¦ –Γ-56¬Μ; –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è βÄ™ –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬ΪLa Gloria¬Μ; –®–≤–Β―Ü–Η―è βÄ™ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –ΞVII –≤–Β–Κ–Α ¬ΪVasa¬Μ; –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η―è βÄ™ –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬ΪMik–Αsa¬Μ.
–ù–Ψ –Η–Φ―è, –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–ë―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ¬Μ –Η–Ζ ―É―¹―² ¬Ϊ–£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ¬Μ βÄ™ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α –≥–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α ―ç―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ–Β ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β.
–£ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Φ―É: –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Ψ–Κ-–Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ―΄ –Η ―É–Ε–Β –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–≤–Α―é―² ―ç―²–Ψ―² ―³–Η–Μ―¨–Φ. –î–Α, –Η –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β ―¹ –Β–≥–Ψ, –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–Α, –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α ―É–Ε–Β –≤ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Α―²―É―¹ ¬Ϊ–Γ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Ϋ–Η―Ü–Α –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄¬Μ.
–£–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ―É: ¬Ϊ–ù–Β―² –ü―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β¬Μ. –®–≤–Β–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ ¬ΪVasa¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤ ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è, βÄ™ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Γ―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ–Α. –ù–Α―à –Ε–Β –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ¬Μ βÄΠ –≤―¹―è ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Ψ―²–Α–Μ–Η―²–Α―Ä–Η–Ζ–Φ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ. –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ε–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Β―΅–Κ–Ψ–≤―΄–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²―΄, –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―΄, –Ψ―²―Ü―΄-–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Ϋ–Α–Ε–Α―²–Η–Β–Φ –Κ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Κ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―É–Μ―¨―²–Α―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –‰ –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ–Α¬Μ –Ϋ–Α –™–Β―Ä–±–Β –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α-–™–Β―Ä–Ψ―è –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ!!! –· –±―΄–Μ –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α, –Η –Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β. –ù―É, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―ë―à―¨ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―¹–Ψ–≤–Β―²–Α: –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ¬Ϊ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –¥–Β―²―¹―²–≤–Α¬Μ βÄ™ ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–≤, –Α –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ¬Ϊ–Ω–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ¬Μ - –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è βÄ™ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤―¹―ë ―è―¹–Ϋ–Ψ.
–£ –ü–Α–Φ―è―²–Η –û–¥–Β―¹―¹–Η―²–Ψ–≤ –ü–Ψ―²–Β–Φ–Κ–Η–Ϋ―Ü―΄ –Ε–Η–≤―É―², –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α –Γ―²–Β–Μ–Β –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―É. –ë―É–¥―É―â–Β–Φ―É –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–¥–Α―΅–Η βÄ™ ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ –Η –Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι –Ϋ–Α –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥ ¬Ϊ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η¬Μ –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η ―É–≥–Μ―ë–Φ.
 –Ξ–ΞI –≤–Β–Κ. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –û–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ –Ϋ–Α –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –¥–Α, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Β ¬Ϊ–ë―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ–Α¬Μ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É―à―¨―é ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–Α.
–Ξ–ΞI –≤–Β–Κ. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –û–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ –Ϋ–Α –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –¥–Α, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Β ¬Ϊ–ë―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ–Α¬Μ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É―à―¨―é ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–Α.
–¦―é–¥―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–≤–Α –Ψ –¥–≤―É―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η –Ω–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥―É―Ö―É –Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Ι ―¹–Μ–Β–¥ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –‰–Φ―è –Η–Φ ¬Ϊ–ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –£–Α―Ä―è–≥¬Μ –Η ¬Ϊ–ë―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ¬Μ. –‰ –Φ―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄ –Η–Φ.
–ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Α―è –Ω–Β―¹–Ϋ―è –Ψ ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥–Β¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–ΑβÄΠ –Ϋ–Α ―¹―²–Η―Ö–Η –Α–≤―¹―²―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Α –†―É–¥–Ψ–Μ―¨―³–Α –™―Ä–Β–Ι–Ϋ―Ü–Α, –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Κ ―¹–Β―Ä–¥―Ü―É –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α.
–≠―²–Ψ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹ –≤ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ―É―é ―É–Ε –¥–Α–Μ―ë–Κ―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é βÄ™ –Ψ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Μ―è ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ–±―Ä–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Β–Ω―¹–Η¬Μ. –£–Β–¥―¨ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ –Κ―É―Ä―¨–Β–Ζ–Α βÄ™ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―²: ¬Ϊ–ö―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ –ß–Α–Ω–Α–Β–≤?" "–ö–Α–Κ –Κ―²–Ψ,- –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ,- –Ϋ–Β–≥―Ä, –Ψ–Ϋ ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ¬Μ. –ë―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –± –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ. –ß―²–Ψ ―²–Α–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–≤―à–Η–Ι –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –®–≤―΄–¥–Κ–Ψ, –Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ –Β–≥–ΨβÄΠ, –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ―É―é –ë–Η―²–≤―É –Ψ–±–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ... –£–Ψ–Μ–≥–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι (!).
–î–Α, –Β―â―ë. (–≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω―ë―Ä–Μ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ¬Ϊ–™–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è –€–Η―Ä–Α¬Μ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Φ –Ψ –·–Μ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –Η –Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –≤ –Ϋ―ë–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―²―Ä―ë―Ö –£–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –î–Β―Ä–Ε–Α–≤). –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Φ, –≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Β–Ι –ö―Ä―΄–Φ―É, –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―è. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Η.
–ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä―è―é―â–Β–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤–Ψ–Μ―¨―é―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Β―é ―²–Β–Κ―¹―²–Α.
–ù–Α 39 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü–Α―¹―¹–Α―É –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Φ, –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –ö―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ―ë―² –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ω–Β―Ä―²―É–Α―Ä–Α. ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥–Α¬Μ –Ε–Β –Ω–Β–Μ–Η –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β: –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β, ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―΄, –Ω–Ψ–Μ―è–Κ–Η –Η ―à–≤–Β–¥―΄, –Η –Φ―΄, –±―΄–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Ζ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤ –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α. –ü–Β–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ―ë―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Β―², –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―¹, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α―Ä–Η―²–Β―² ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –¥―É–Ϋ–Α–Ι―¹–Κ―É―é –Φ–Β–Μ―¨, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Α―É―²―Ä–Ψ –Φ―΄, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –ß―²–Ψ–±―΄ ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Ι, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –‰ –û–¥–Β―¹―¹–Α –≤ 2004–≥–Ψ–¥―É –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹―²–Α–Μ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–ü–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤―É –Η –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ―² –Λ–Ψ―Ä―É–Φ –Ω―Ä–Β–≤–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Β 40. –î–≤–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–≤. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ 37, –Η–Ζ –‰―²–Α–Μ–Η–Η βÄ™ 28, –Η–Ζ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤ βÄ™ 20. –Γ 14 –Ω–Ψ 17 –Φ–Α―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι - –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ 41.
–€―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η-–Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Φ―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è 41 –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Ζ–≤―É―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –Β―¹―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –€–Η―Ä–Α –≤―¹–Β –Ε–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –û–î–ï–Γ–Γ–ï!!!
–£ –Α–¥―Ä–Β―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Φ–Α―¹―¹–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ―² –≥–Μ–Α–≤ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α. –‰ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ James Blakely (–Α–≤. ―Ö―Ä–Α–Ϋ―é –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–ΚβÄ™―΅–Α―¹―΄) –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι: –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –≤ 2009 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄, –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η –ü–Ψ–Μ―¨―à–Η, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –ê –≥–Μ–Α–≤–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η Devere Pyatte –Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η –≤–Η–¥–Β–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ψ–± –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Μ–Β–Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η –î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤. –‰ ―ç―²–Ψ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η! –ê ―¹–Α–Φ –Ε–Β –≤–Η–¥–Β–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ζ–Α –≤―¹―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β―¹―²―É–¥–Η–Β–Ι ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ¬Μ –Β―ë –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―²–Β–Μ–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ß–Β―Ä–Ϋ―è–Κ.
–û–Ω―΄―² –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α―Ö―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è ―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Η –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄–≥–Ψ–¥―΄. –ß―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ω―Ä–Β–¥―¨, –Ψ―Ä–≥–Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è–¥―Ä–Ψ–Φ –¥–Μ―è –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ. –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ¬Μ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –ù–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Η –±–Β–Ζ –Κ―É―Ä―¨―ë–Ζ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―¹–Β―Ö –±–Μ–Α–≥–Η―Ö –¥–Β–Μ –Η ―¹–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η.
–Γ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Μ–Β―². –‰ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α―Ö –≤: –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β, –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –ü–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Γ–Α–Ϋ –î–Η–Β–≥–Ψ (–Γ–®–ê), –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β, –Δ―É―Ä―Ü–Η–Η, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Η–Β–≤–Β –Η –≤ –‰―²–Α–Μ–Η–Η.
 –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―â–Β–Β ―ç―²–Ψ―² –Φ–Η―Ä, –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Η –¥–Β–≤–Η–Ζ–Α―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ê–¥–Α–Μ―¨–±–Β―Ä―²–Α –®–Ϋ–Β–Β: "–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―É–Φ–Α―é―² –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É..., –Ϋ–Ψ –Φ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ϋ–Η–Ζ―É". –≠―²–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―É–Ε –±–Β–Ζ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥. –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –≤ –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ–Β, –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –Φ―ç―Ä–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β - –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Β, –Α–Μ–Φ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –·–Κ―É―²–Η–Η -–Λ.–ê –®―²―΄―Ä–Ψ–≤, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Α–Φ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Β–≥–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―²―΄―Ä–Ψ–≤ - –Ω–Β–≤–Ψ–Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η. –ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α―Ö –ö–Η–Β–≤–Α –Η –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –î–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ϋ–Α―à –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ.–†. –™―Ä–Η–Ϋ–Β–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£.–ï.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –†–Α―³–Α–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –±–Β–Ζ –Ψ–±–Η–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: "–û–¥–Ψ–±―Ä―è–Β–Φ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Φ!".
–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―â–Β–Β ―ç―²–Ψ―² –Φ–Η―Ä, –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Η –¥–Β–≤–Η–Ζ–Α―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ê–¥–Α–Μ―¨–±–Β―Ä―²–Α –®–Ϋ–Β–Β: "–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―É–Φ–Α―é―² –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É..., –Ϋ–Ψ –Φ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ϋ–Η–Ζ―É". –≠―²–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―É–Ε –±–Β–Ζ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥. –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –≤ –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ–Β, –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –Φ―ç―Ä–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β - –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Β, –Α–Μ–Φ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –·–Κ―É―²–Η–Η -–Λ.–ê –®―²―΄―Ä–Ψ–≤, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Α–Φ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Β–≥–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―²―΄―Ä–Ψ–≤ - –Ω–Β–≤–Ψ–Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η. –ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α―Ö –ö–Η–Β–≤–Α –Η –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –î–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ϋ–Α―à –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ.–†. –™―Ä–Η–Ϋ–Β–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£.–ï.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –†–Α―³–Α–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –±–Β–Ζ –Ψ–±–Η–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: "–û–¥–Ψ–±―Ä―è–Β–Φ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Φ!".
–£ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β 2002 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Γ.-–ü–Η―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Θ―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Γ―ä–Β–Ζ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–ù–™ –Η –ë–Α–Μ―²–Η–Η. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–≤ –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –Γ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η ―¹―ä–Β–Ζ–¥―É –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η, –¥–Β―è―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α. –û―² ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α βÄ™ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤. –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α - ―²―Ä–Ψ–Β –Η–Ζ –û–¥–Β―¹―¹―΄. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Β―² ―¹–Η–Μ―É –Η –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η―Ä–Α―¹―²–Α―²―¨ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι!
–ù–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –•–Α–Ϋ –€–Ψ―Ä–Η –€–Α―²―ç –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ψ―² –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Α: ¬ΪToujours lu sujet de femmrs¬Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β ―¹ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²: ¬Ϊ–£―¹–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α―Ö¬Μ.
 –≠―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Φ–Α–Φ–Α, –Ε–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α, –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α-–€–Α―²―¨, –û–¥–Β―¹―¹–Α-–€–Α–Φ–Α, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η―Ö –Η–Μ–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ―É–Ε―¹–Κ–Η―Ö –Φ―΄―²–Α―Ä―¹―²–≤.
–≠―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Φ–Α–Φ–Α, –Ε–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α, –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α-–€–Α―²―¨, –û–¥–Β―¹―¹–Α-–€–Α–Φ–Α, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η―Ö –Η–Μ–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ―É–Ε―¹–Κ–Η―Ö –Φ―΄―²–Α―Ä―¹―²–≤.
–‰ –≤–Ψ―² –Ψ–± –≠―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ βÄ™ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –≤ –Γ–Α–Ϋ –î–Η–Β–≥–Ψ, –Φ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α ―²–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―΄. –‰ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄ™ –€–Α―Ä–Η―è –ü–Α―Ö–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
–£ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–ΨβÄΠ, –Α –î–Ψ–Φ–Α –Μ―É―΅―à–Β!!!
|
|
5. –Γ―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨ –Η –ß–Β―²–Κ–Ψ―¹―²―¨
| |
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α ―¹ –°–Ϋ–≥–Ψ–Ι –£–Η―²–Β–Ι –Γ–Κ–Ψ–Ω―Ü–Ψ–≤―΄–Φ –≤ ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Α: ¬Ϊ–û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Η―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ¬Μ. –û–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ε–Β –Ω–Ψ Skype ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ, –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ, ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Α―à–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―²–Η-–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è, –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ê.–Γ.–ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Β―â―ë –Η –Φ–Ψ–Η–Φ –Δ―ë–Ζ–Κ–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ζ–Α –Η–Ζ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ι–Ω–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―É―é ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η ―²–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η βÄ™ ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨ –Η –ß―ë―²–Κ–Ψ―¹―²―¨¬Μ. –‰ –Β―â―ë. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Η ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ: ¬ΪβÄΠ–£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ¬Μ. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨.
–†–Α–Ϋ–Β–Β, –≤ –≥–Μ–Α–≤–Β ¬Ϊ–£–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨¬Μ, ―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ:
¬Ϊ–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é 27 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-56¬Μ –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 57 ―¹―²–Α―²―¨―é –Θ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Γ–†, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1960 –≥., ―²–Ψ –±–Η―à―¨, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –½–ê–ö–û–ù, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α: ¬Ϊ–£―¹–Β –Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Κ–Α–Κ, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η, –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ?¬Μ
–ü–Ψ ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Β –≤ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ–Α―Ö –Γ–Γ–Γ–† –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –≥–Ψ–¥ –≥–Η–±–Μ–Ψ –¥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö βÄ™ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η―³―Ä―΄. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ (–Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ–Η), ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, ―²–Α–Κ –Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –· –Ε–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö. –‰ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö βÄ™ ―ç―²–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α.
–ï―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ω―Ä–Η ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ, ―è –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ–± –Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Β―ë –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β ―Ä–Β―΅―¨ –Ψ –Β―ë, –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –≤ –±–Α–Ζ–Β, ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α (–≤ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö) –Η–Μ–Η ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –ü–Η–Κ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ü–¦ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β, –Ψ–±–Φ–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–≥–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Η, ―΅–Β–Φ, –±―΄–Μ–Ψ ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α, –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–†, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ß–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α¬Μ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Δ―É–Α–Ω―¹–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄, –Η–Μ–Η ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä–Α ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –±―É―Ö―² –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Μ–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–Θ–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨¬Μ, –Η–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ω―Ä–Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è 25-―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Μ–Κ–Β―Ä ¬ΪSeabaer¬Μ βÄ™ –Ω–Ψ―Ä―² –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹–Κ–Η –ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Α, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Ψ–≤ –¥–Β–Μ―¨―²―΄ ―Ä–Β–Κ–Η –€–Β–Κ–Ψ–Ϋ–≥ –Γ–Α–Ι–≥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α (–Ω–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―É –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ–Α βÄ™ 3 –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α).
–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ß–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α¬Μ –Ψ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι, ―².–Β. –Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ ―²―É–Α–Ω―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥ ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è (―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―²–Α–≤―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Φ―É βÄ™ ¬Ϊ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ¬Μ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Μ―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α), –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―è –≤―¹―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Β–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é –¥–≤–Β―Ä―¨ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α.
–î–Μ―è –±–Α–Μ–Κ–Β―Ä–Α –Ε–Β –≤–Β―¹―¨ ―³–Ψ―Ä―¹-–Φ–Α–Ε―ë―Ä –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β –≤ ―¹–Η–Μ–Β –≤–Β―²―Ä–Α –Η –≤―΄―¹–Ψ―²–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –Α –≤ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Μ–Η–≤–Ψ-–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η. –Δ―Ä–Β―²–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ –≤―¹–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―à–Κ―É―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ ―¹ –±–Ψ―΅–Β–Κ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ε–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β ―¹―É–¥–Α, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Α–Ι–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Η. –ö–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, –Α –Ψ–Ϋ–Ψ (―ç―²–Ψ –Μ–Η―Ü–Ψ) –Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―é –Η –Ϋ–Β–Φ–Β–Β―². –ß―ë―²–Κ–Η–Β, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β, ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―É–±–Β―Ä–Β–≥–Μ–Η –±–Α–Μ–Κ–Β―Ä –Η –±–Μ–Η–Ζ–Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Β ―¹―É–¥–Α –Ψ―² –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η, –Α ―²–Ψ –Η –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄. –ù–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Δ–Ψ–Μ–Β–Ι –½–Α–≥–Ψ―Ä―É–Ι–Κ–Ψ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-V –ü–¦ ¬Ϊ–ë-90¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²―¨, –Ω–Α–¥–Α–Μ–Α –≤–Ϋ–Η–Ζ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –†–î–ü (―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι), ―²–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –½–Α–≥–Ψ―Ä―É–Ι–Κ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β βÄ™ ―¹–Ω–Α―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η. –ê –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ―ë–Φ –±―΄–Μ–Ψ 5 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –‰ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―à―É―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η: ¬Ϊ–≠―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ 15 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Η–¥―ë―² –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―é―Ö–Η¬Μ.
–ï―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²―Ä–Η―Ö–Ψ–Φ βÄ™ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―΅–Β–Φ , ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β –≤ ¬Ϊ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―².–Β. –Ψ–±–Φ–Ψ―²–Α–Ϋ–Α –Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–≥–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è: ―Ö–Ψ–¥ –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –ï―ë ¬Ϊ–≤–Ψ–¥–Η―²¬Μ ―²―É–¥–Α-―¹―é–¥–Α –Ω–Ψ 30-40 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹―É. –·, –Κ–Α–Κ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ (–Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β –Ζ–Α ―²–Α–Κ―É―é ―³―Ä–Η–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨), –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é –¥–≤–Β―Ä―¨ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β―² –Ζ–Α ―²―É–Α–Ω―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―è –≤ –Π–ü (―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É) –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, ―¹–Η–¥―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≤―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―É―à–Κ–Β, ―É–Ω―ë―Ä―à–Η―¹―¨ –≤–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ ―Ä–Β–Ω–Η―²–Β―Ä –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Α, ―¹–Μ–Β–Ε―É –Ζ–Α –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²―É―à–Κ–Η. –‰ –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥ –Β―ë –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, ―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ¬Μ ―è–Κ–Ψ―Ä―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: ¬Ϊ–ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι, ―²―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ ―Ü–Β–Ω―¨!¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―²: ¬Ϊ–½–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ!¬Μ (–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –ê–ü–¦ 627 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é). –ê –Β―¹–Μ–Η –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ, ―²–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ù–Β –Ζ–Α–±―΄–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–· –Ε–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥―É, ―²–Β–±―è ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―²–Α–Κ–Μ–Η–Ζ–Φ–Α–Φ, –Α –Ω–Ψ –Μ–Α–±–Η―Ä–Η–Ϋ―²–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι.
–¦–Β–≥–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―¨–±―É ―¹ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ. –ù―É, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, ―¹–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Η–Β–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ ―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―² –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ―è―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α ―Ä―É―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é, –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―É―é, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –û–¥–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―É―à―É―é―² –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Η ―Ä–Β–≤―ë―² –≤–Β―²–Β―Ä –≤ ―¹–Ϋ–Α―¹―²―è―Ö (―ç―²–Α –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α –Η–Ζ –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –¥–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è). –‰ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Η―à―¨ –Η –≥–Μ–Α–¥―¨ –Η –Ϋ–Η ―΅―²–Ψ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α–Β―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α: ¬Ϊ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é. –‰ –≤–Ψ―² –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²―É ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ –Ε–Α–Μ–Ψ–±―É –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α, ―².–Β. –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β–≥–Ψ, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―é –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ë―΄–Μ –Β―â―ë, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Μ: ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β ―²―Ä―É–¥―è―â–Η–Β―¹―è –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö¬Μ βÄ™ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤ –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Μ–Α―²―΄ –ù–Α―Ä–Κ―Ä–Φ–Α –£–€–Λ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –Η –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ü–Η–Κ―É–Μ―è. –ë―΄–Μ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ.
–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥―É ―²–Β–±―è –Κ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Β –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β―ë, –‰–¥–Β―é, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ–≤–Α―²–Ψ, –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –Η, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Η. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Α ―¹ –¥–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α–Ε–Β–Φ. –ö–Α–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Α―è –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Κ–Α: ¬Ϊ–€―΄ –Ϋ–Β –Ω–Η―à–Β–Φ –Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α―Ö, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è¬Μ.
–Γ–Φ. ―¹–Α–Ι―² http://confound-876.livejournal.com/ , –Β―â―ë –Ω―Ä–Ψ―â–Β, –Η –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Η–Κ–Β Google –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨: –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ:
Guardfish –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ö-184 (–≤ –¥–≤―É―Ö ―΅–Α―¹―²―è―Ö). –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, –¦–Η―²–Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä –ö–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Η: 6 (12/10/2008) 1972 –≥–Ψ–¥, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-184 –≤ –°–Ε–Ϋ–Ψ-–ö–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ê –≤ –Ϋ―ë–Φ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ, –Η ―¹–Α–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α:
¬Ϊ–Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥―É "United states submarines", –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ ―¹―²–Α―²―¨―é –Κ―ç–Ω―²–Β–Ϋ–Α –£–€–Γ –Γ–®–ê (–≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β) –î―ç–≤–Η–¥–Α –€–Η–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è "–ü–¦ Guardfish –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ü–¦ Echo". –‰ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –î―ç–≤–Η–¥ –€–Η–Ϋ―²–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –ö-184, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η―è–Φ –î―ç–≤–Η–¥–Α –€–Η–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α.¬Μ
–‰―²–Α–Κ, ¬Ϊ–‰–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ü―É―²―è―²–Η–Ϋ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ê―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–¥, –≥―Ä–Ψ–Φ―΄―Ö–Α―è –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ–Η –≤―΄–Ω–Μ―΄–≤–Α–Μ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥¬Μ. –≠―²–Ψ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Η–¥―ë―² –≤ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –ö–Α–Φ–Β–Ϋ―¨. –ê–ü–¦ –Ε–Β ¬Ϊ–ö-184¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Ψ―è–Ε–Β–Φ –Ζ–Α ―²―Ä–Η –Φ–Ψ―Ä―è –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£―¨–Β―²–Ϋ–Α–Φ–Α, –Η–Φ–Β―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–ΒβÄΠ ―²–Α–Κ, –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Α –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Η–Κ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Η―è (―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Β–Ϋ–Α) –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –≤―¹–Ω–Μ–Β―¹–Κ–Ψ–≤.
–£―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –≤ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Α–Ι―²–Β. –· –Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―è ―¹–Α–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ –≤ ―ç―²–Η―Ö –°–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è―Ö: –Γhief`–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Β ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Α¬Μ ―²–Η–Ω–Α Liberty, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–¥–Η–Ζ–Β–Μ―è―Ö¬Μ 613 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ¬Ϊ–Γ-334¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ-286¬Μ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
–ü―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –¦―É―¹–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –ë–Α–±―É―è–Ϋ –≤ –¥–Α–Μ–Η, –≤ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Κ–Α―è –¥―΄–Φ―è―â–Η–Β―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–¥―΄ ―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ –Δ–Β―²―é―Ö–Η –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ, –≤–Β–¥―è –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –û―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ¬Μ βÄ™ ¬Ϊ–ë–û-122¬Μ –¥–Μ―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–ë–û-122¬Μ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Β, ―¹ –°―Ä–Ψ–Ι –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ (―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –Δ–û–£–£–€–Θ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤). –½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –Ϋ–Α―à –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥ –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ (–±―΄–Μ–Ψ –Β―â―ë –¥–≤–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Η–Φ–Β―è –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β –¥–Μ―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η –Η―Ö –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α, –Φ–Α–Μ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η) –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ¬Ϊ–€–Α―Ä–Μ–Η–Ϋ¬Μ, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Ψ–±–Μ–Β―²–Β―²―¨ –Ψ―Ä–¥–Β―Ä –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ-–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ï–≥–Ψ, ¬Ϊ–€–Α―Ä–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ, –Κ–Α–Κ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ ―¹–¥―É–Μ–Ψ ―¹ –Κ―É―Ä―¹–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η ¬Ϊ–±–Ψ–Β–≤―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É¬Μ –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―â–Β―²–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ¬Ϊ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η¬Μ.
–ü–Η―à―É, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Η―², ―²–Ψ –Η –Ω–Ψ―ë―²: ¬Ϊ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α –±–Β–Ε–Η―², –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Μ–Β―²–Η―²βÄΠ¬Μ, –Α ―èβÄΠ, ―΅―²–Ψ –≤–Ζ–±―Ä–Β–¥―ë―² –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –ü–Α–Φ―è―²–Η, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―è ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η –¦–Η―Ü–Α –≤ –Η―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –ë―΄―²–Η―è. –ù–Ψ –≥–¥–Β ―²―΄, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹–≤–Β–¥―É―â–Η–Ι ―à―²–Α―²―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –±―΄, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –ü–¦–û –Γ–®–ê, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–€–Α―Ä–Μ–Η–Ϋ¬Μ –Η ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―²–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –Γ ¬Ϊ–€–Α―Ä–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë –¥–≤–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η: –Ψ–¥–Ϋ–Α –≤ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö –£―¨–Β―²–Ϋ–Α–Φ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―É―Ö–Ψ–≥―Ä―É–Ζ ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Α¬Μ –Η–Ζ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –≤–Β–Ζ –≤–Ψ –£―¨–Β―²–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –±–Ψ―Ä―²―É 90-―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–±–Α―Ü–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É –±–Ψ–Φ–±―É –¥–Μ―è ―É―¹―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è. –û –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―É–¥–Β―² –≤ ―à―É―²–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β: ¬Ϊ–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –ü–¦–û ¬Ϊ–€–Α―Ä–Μ–Η–Ϋ¬Μ –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –±―É―è–Φ–Η –Η ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-335¬Μ –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Β―ë –Ζ–Α –Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É¬Μ. (–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ―É―é, –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β). –Γ ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ ―²–Ψ–Ε–Β ―è–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β: ―à―²–Ψ―Ä–Φ, –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥, –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―΄–Μ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α ¬Ϊ–Μ–Η–±–Β―Ä―²–Ψ–Ζ–Α¬Μ (Liberty βÄ™ –Ϋ–Α –Ε–Α―Ä–≥–Ψ–Ϋ–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤) ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ¬Ϊ–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ, ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ζ–Α –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –≤ –Κ–Α–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –£–Α–Ϋ–Κ―É–≤–Β―Ä, –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é –¥–≤–Β―Ä―¨ –Κ–Α–±–Η–Ϋ―΄ –Ω–Η–Μ–Ψ―² ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―à–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –€–Α―Ä–Κ–Α******–Ϋ–Α ―²―Ä―É–±–Β –Β–Φ―É, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –¥–Μ―è –Ψ―²―΅―ë―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –‰ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―è –Η―Ö –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ê–Ϋ–Κ–Β―Ä¬Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Η –Κ ―¹–Μ–Ψ–≤―É, ―²/―Ö ¬Ϊ–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ, ―¹―΅–Η―²–Α–≤―à–Η–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹–Κ–Β βÄ™ ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ―¨―é. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α, –≤ –£–Α–Ϋ–Κ―É–≤–Β―Ä–Β, –Κ–Α–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Η–Β ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―Ü―΄ –≤–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ¬Ϊ–û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ βÄΠ –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Η―Ö ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β―¹–≥–Η–±–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η: ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –û–Μ–Β–≥―É –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β βÄ™ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Η –Μ–Β―²–Α–Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Β¬Μ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –‰ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –ë―É–¥―ë –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Ψ―Ä–≤–Β–≥–Η–Η. –‰ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―²―É–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–Μ―ë―² –Ϋ–Α ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Β¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –¦–Η–Η–Ψ―Ö–Ψ–Φ–Α―Ä–Η –ù–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α.
–£ –≥–Μ–Α–≤–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ, ¬Ϊ–Ϋ–Η―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Β–Φ―É –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ¬Μ, ―è ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Β–ΦβÄΠ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Φ. –Γ–Β–±―è ―è –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é, –Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Ψ―²―΅–Α―¹―²–ΗβÄΠ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Η –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η ―²–Ψ–Ε–Β. –ê –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι, –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –†―è–±–Ψ–≤ (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι βÄ™ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤), –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹―²―¨ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–Ζ―΄–±–Μ–Β–Φ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ –Ϋ―ë–Φ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β.
–£–Ψ―² ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ. –· –Ψ–± –û–Μ–Β–≥–Β –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ –Ζ–Α–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―΄–Φ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –· –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β-―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―² –Η –±–Β–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ.
–Θ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η―Ö βÄ™ ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―² ¬Ϊ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ βÄΠ –Η –Ϋ–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –‰–Ϋ–Α―΅–Β ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ö–Α–Κ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ βÄ™ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≥–¥–Β –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨. –û–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α¬Μ. –‰ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Κ―Ä―É–Η–Ζ–Β¬Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Β¬Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Φ–Η–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―²–Α–Φ –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨ –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –‰ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ?! –ê –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η: ―ç―²–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Α–Φ–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Κ–Η –≤ –Μ―ë―²–Ϋ―΄―Ö, –Ψ–±―²―è–Ϋ―É―²―΄―Ö –≤ ―²–Α–Μ–Η―é, –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö βÄ™ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η, –Α –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ζ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.
–· –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―¹―¨ –Η–Ζ–¥–Α–≤–Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ Jean-Marie Mathey –Β―â―ë –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β –≤ 2003 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α 40 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤: ¬ΪToujours lu sujet de femmrs¬Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β ―¹ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²: βÄ€–£―¹–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α―ÖβÄù. –ü―É―¹–Κ–Α–Ι, ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Φ–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±―΄―΅–Α―è–Φ ―è ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –ê –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Β ―è ―É–Ε–Β –≤―΄–Μ–Ψ–Ε―É―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β: ¬Ϊ–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –≤ ―¹―É–¥―¨–±–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α
–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –î–Α, –Β―â―ë, –Ω―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―΄–Φ –ù–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α βÄ™ ―²–Ψ―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –≤ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±–Μ–Η–Κ–Β –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
–‰―²–Α–Κ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-184¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Α, –Β―ë –≤ –°–Ε–Ϋ–Ψ-–ö–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–¥–Α–Μ–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι.
–·, –±―΄–Μ–Ψ, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ ―¹ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α ―²/―Ö ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Α¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –¦―É―¹–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É. –ù–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–≤–Μ―ë–Κ―¹―è, –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α―è―¹―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄ™ ¬Ϊ―΅―ë―Ä―² –Ζ–Ϋ–Α–Β―²¬Μ: –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Α–Μ–Η –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –†–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤, βÄ™ –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η –ü–¦–û –Γ–®–ê, –Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α–Κ―²―É―Ä–Ψ–Ι. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –¦―É―¹–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ –Ω–Ψ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä–≥–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–¥–Ψ–Ι –¥–Μ―è –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η, ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ι –¥―΄–Φ―è―â–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Η –Ζ–Β–Φ–Μ–Η ―è–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―É―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ψ―΅–Β―Ä―²–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –û–Ϋ–Η –Β―â―ë –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―².–Κ. –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Α –¥–Ϋ–Α –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―è –Ω–Ψ―è–≤―è―²―¹―è –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –°–Ε–Ϋ–Ψ-–ö–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α―é―² –≤―¹–Β―Ö –±–Β–Ζ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι.
–ê –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η―Ö ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–¥―΄ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ –¥–Μ―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―²–Ψ–Ε–Β. –ù–Α―΅–Ϋ―É –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ¬Ϊ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β.
–ï―¹–Μ–Η –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β ―²―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ψ–≤. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–≤–Β–¥―É―â–Η–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: ¬Ϊ–ê, –†–î–ü?¬Μ (―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –ê–ë –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β). –ü―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –≥–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ ¬Ϊ–ê–Κ―É–Μ–Α¬Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –™―É–¥–Η–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ, –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α.
–û–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü.
–î–Α–Ε–Β ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ 611, 613 –Η 629 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ: –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –¥–Ϋ―ë–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Α –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η –≤ –Ω–Μ–Ψ―Ö―É―é –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü.
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Η. –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è?! –™―Ä–Ψ―Ö–Ψ―² ¬Ϊ37–î¬Μ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α: –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Β―ë ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ. –ê ―΅―²–Ψ –†–î–ü βÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β–±―è –≤―¹–Β –≤–Η–¥―è―², –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–¥―΄―΅–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–¥―Ä―É–Ζ―¨―è¬Μ βÄ™ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –ü–¦–û. –‰ ―É –≤―¹–Β―Ö ―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―Ö―É. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―² ―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄–Β –±–Α–Μ–Κ–Β―Ä–Α, –Η–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä βÄ™ –Φ–Η–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―²¬Μ –Η, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–≤, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―ë―² –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –Γ–Α–Φ–Α –Ε–Β –ü–¦ –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Η―²: –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è ¬Ϊ–Ζ–Α–±–Η–≤–Α―é―²¬Μ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ―É, –Α –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –≤―΄―¹–Ψ―²–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―², ―³–Η–≥―É―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –≤–Η–¥–Β―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Α. –ê –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―² ―¹–Α–Φ–Η–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Α–±–Α–Μ–¥–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ –†–î–ü. –‰ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ, –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É. –£―¹―è –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤―É―é –†–¦–Γ ¬Ϊ–ê–Ϋ–Κ–Β―Ä¬Μ.
–î–Α, –Η –¥–Η―¹–Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―² –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α―É–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²―΄ ―É–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―è –≤ –Κ―É–Ω–Β ―¹ –Κ–Α–Μ–Μ–Η–≥―Ä–Α―³–Α–Φ–Η-―΅–Β―Ä―²―ë–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤–Η–¥–Β–≤―à–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α, ―¹ –Κ–Ψ–Η–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ–Β―²―¨ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ/–ê–Φ―É―Ä–Β ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, ―¹ –Ω–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―É ―Ä―²–Α –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä, –Η–Μ–Η –Ω–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Η–Κ –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α―²–Β–Μ―è ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε―É. –ù–Ψ, –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―É, –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β ―¹ ―Ä―É–Κ–Η –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η.
–î–Α, –Ϋ―É –Η―Ö (!) βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Φ–Ψ–Β–Ι, –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è―²–Ψ–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–≤–Φ–Ψ–≥–Ψ―²―É –≤―¹–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β!!! –· –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ψ–± –†–î–ü. –ï―¹–Μ–Η –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –Η–Μ–Η –Κ―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―ë―¹ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η―è –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β―¹–Α–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Φ¬Μ, ―²–Ψ –¥–≤–Β ―²―Ä―É–±―΄ –†–î–ü –Γ–û–£–Γ–ï–€ –†–·–î–û–€, –ß–Θ–Δ–§ –¦–‰ –ù–ï –Γ–û–ü–†–‰–ö–ê–Γ–ê–·–Γ–§ βÄ™ –Η –≤–Β―¹―¨ ―É–≥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –≥–Α–Ζ –≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö. –£ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅―ë―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―ë―²―¹―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Β: ¬Ϊ–ù–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α –Η–≥―Ä–Α–Μ–ΑβÄΠ¬Μ –½–¥―Ä–Α–≤―΄–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä ¬Ϊ–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Φ―΄―¹–Μ–Η: –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ–≥―É―¹–Α–Κ¬Μ βÄ™ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –ü–¦ 613 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α (–≤―¹―ë –Ε–Β –¥―΄―à–Η―²―¹―è –Μ–Β–≥―΅–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Η–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≤–Β―²―Ä–Α). –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Ψ –Η ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ¬Ϊknow how¬Μ βÄ™ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η –≤ –Ω–Μ–Ψ―Ö―É―é –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―É–Φ–Α.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Μ–Η―è―é―² –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ω–Α–Φ―è―²―É―è ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Β―ë ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–ï―¹–Μ–Η –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ –Η―é–Μ–Β, –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä –Μ–Β―²–Α, –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 100 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –Φ–Η–Ϋ―É―¹ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Α, –Α –≤ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β ―²–Β―Ö –Ε–Β 100 –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –¥–Ψ –Ω–Μ―é―¹ 29 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Π–Β–Μ―¨―¹–Η―é, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –°–≥–Β. –ê―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―è ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Μ―²―΄ ―¹―ä―ë–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é―΅–Κ–Ψ–≤ –Η –Μ―é–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –¥–Μ―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ –≥–Α–±–Α―Ä–Η―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤.
–ù–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄, –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ζ―è―²–Α―è –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Α βÄ™ –Β―ë –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Α―²―¨. –‰ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –±―É―Ö―²―É –ß–Α–Ε–Φ–Α, ―΅―²–Ψ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―é, –≥–¥–Β ―è –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –≤ –±―É―Ö―²―É –ß–Α–Ε–Φ–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-184¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Δ―ë–Ζ–Κ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹ –°–Ε–Ϋ–Ψ-–ö–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –¥–Μ―è ¬Ϊ–Ζ–Α–Μ–Η–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Ϋ.
–‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-184 –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α―¹―Ö–Ψ–¥, ―É–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α―è. –· –≤ –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–ê ―²―΄ –Ϋ–Α–Ω–Η―à–Η –≤ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –½–≤–Β–Ζ–¥―ɬΜ, ―΅―²–Ψ ―²–Β–±―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι¬Μ.
–£–Ψ―² ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ι–Ω–Ψ–≤–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Δ–Β–Ζ–Κ–Ψ–Ι –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Ψ–Φ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ψ ―²–Ψ–Φ –Ψ ―¹―ë–Φ. –‰ –Ψ–± ―É―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-429¬Μ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤ 1983 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –±―É―Ö―²–Β –Γ–Α―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –½–Α–≤–Ψ–¥–Α –≤ –±―É―Ö―²–Β –Γ–Β–Μ―¨–¥–Β–≤–Α―è. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ (–≤ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ) ―è ―²–Α–Φ –±―΄–Μ –¥–Ψ 1981 –≥–Ψ–¥–Α.
–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–±–Β―²―¹–Β–Μ–Β―Ä–Ψ–≤¬Μ –Ψ ―²–Α–Ι–Ϋ–Α―Ö –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-115¬Μ –€–Α―Ä–Α―² –ö–Α–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Φ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Α―à―É –Ω–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²–Η. –£ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è βÄ™ –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ë–Ψ–≥–Α¬Μ. –‰ –Φ–Ψ―è –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α–Φ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è –¥―΄―Ä–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β βÄî ―ç―²–Ψ –¥―΄―Ä–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α¬Μ.
–ö–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Κ–Α ―¹–Κ–Α–Ι–Ω–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α:
βÄî –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤: ¬Ϊ–Θ –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―É―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Α¬Μ.
βÄî –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ –≥–Μ―É―Ö–Ψ: ¬Ϊ–· –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―¹―¨¬Μ.
|
|
6. –ö ―΅–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η, ―΅―ë―²–Κ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α
| |
–¦–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α―é―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨. –½–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ 29 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±–Β–Ζ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η, –Ζ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦ –Η ―¹–Μ–Α–±–Α―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –≠―²―É –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ, ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±–Β–Ζ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ ―¹–Β–±–Β –Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É.
–ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö 27 ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –≤ 56-―²–Η ―¹―²–Α―²―¨―è―Ö ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É–Β―² –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Θ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Η―Ö ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ 10 –Η 5, ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η βÄ™ 19 –Η 6, ―É –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α 2 –Η 4. –· –Ε–Β –Ω–Η―à―É –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α―Ö, –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Θ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ. –≠―²–Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –±―É–¥―É―² –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö ―²–Β–Κ―¹―²–Α―Ö –Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ.
–ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –î–≤–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―²–Α–Κ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –Η ―Ä–Α–¥–Η―¹―² –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ: –Ψ–Ϋ –≤–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α. –ï―¹–Μ–Η –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―²–Ψ –Ψ―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Β. –£ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―² –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤―¹―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É. –£ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Ζ–≤―É–Κ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ï―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹―΄, –Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Η–Ζ–≥–Η–±–Α–Φ–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–¥―΄, –Β―ë ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Κ―²–Ψ–Ϋ–Α. –ï―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ ―à―É–Φ―΄ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β―²―¹―è –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Φ–Η–Μ―¨, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –¥–Β–Μ―¨―³–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Κ–Η―²–Ψ–≤, –Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ω―Ä–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―³–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Ϋ–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η–Μ–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –ê –Ϋ–Ψ―΅―¨―é βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Ι –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η, –Η–¥―É―â–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Β–±―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Η ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―É–Ι―²–Η –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ü―Ä–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ϋ–Β–≤–Β–Μ–Η–Κ–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Μ–Ψ―Ö―É―é –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –½–Α–Ω–Ψ―²–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―΅―ë―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–¥―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è: –Κ―É–¥–Α –Ε–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω βÄ™ –≤–≤–Β―Ä―Ö, –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ –Η–Μ–Η ―É–Ω―ë―Ä―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é ―à–Η―Ä―¨. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è , –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―è, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α –Η –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Η –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Η –Η–Ϋ―²―É–Η―Ü–Η–Β–Ι.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―É–±–Β–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Β –¥–Μ―è –Α–¥–Α–Ω―²–Α―Ü–Η–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è.: ¬Ϊ–ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Ι!¬Μ. –ù–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Β–Ϋ. ¬Ϊ–ë–Α―Ä―Ä–Α–Ε–Η―Ä―É―è¬Μ –Ϋ–Α ―Ä―É–Μ―è―Ö, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –£–£–î /–≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è/ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ. ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–¥―É―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é!¬Μ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–¥―É―²–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è, –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄ –Κ–Η–Ϋ–≥―¹―²–Ψ–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² –≤/―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β. –û–¥–Η–ΫβÄΠ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α, –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –£–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Α―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ /–¥–Α–Ε–Β –≤ ―à―²–Η–Μ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É!!!/. –ê –≤–Ϋ–Η–Ζ―É –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö―¹–Ψ―² –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η―Ö, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Ϋ–Β–Ι, –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö: –Ψ―²―Ü―΄, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Ε―ë–Ϋ―΄, –¥–Β―²–ΗβÄΠ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ζ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Ζ–Α –£–Γ–ï–Ξ –≤ –Ψ―²–≤–Β―²–Β!!! –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –≤ ―¹–Η–Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η―΅–Κ–Α―Ö ―¹ ―²―Ä–Β–Φ―è –±–Β–Μ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Α–Φ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤―΄–Φ–Η –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ–Η, –Α –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α βÄ™ –≤ –Ψ–±―ä―è―²–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ε―ë–Ϋ –Η –¥–Β―²–Β–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Κ―Ä–Β–¥–Ψ.
–· –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É ―É–Φ–Α–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι. –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β―², –Η ―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ βÄ™ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–≤―à–Η―¹―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Α―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É: ¬Ϊ–û―²–¥―Ä–Α–Η―²―¨ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α –≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Α–Ζ–Α–Φ–Η!¬Μ (―¹ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Η–Μ–Η –±–Β–Ζ ―Ö–Ψ–¥–Α, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ω–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β). –ù–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Μ―é–Κ –Η –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Κ―Ä―΄―à–Κ―É. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –Ψ―²–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ/―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ –Η –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―è –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ –≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É―²―¨ –Κ―Ä―΄―à–Κ―É –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Β ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α –Η –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η―²―¨ –Β―ë, –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É.
–ù–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –±―΄―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―²–Β―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄―Ö, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―².
¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–©βÄ™405¬Μ /–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²/ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –‰–Μ―¨–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α ―¹ 24 –Η―é–Μ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –®―²–Ψ–Μ―¨–Ω–Φ―é–Ϋ–¥–Β. –‰–Ζ-–Ζ–Α –±–Β–Ζ–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≤―¹–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Μ–Η –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η. 11 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, ―É–Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Η–Ζ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ¬Ϊ–©βÄ™405¬Μ, –Ζ–Α―Ä―΄–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Μ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è –Η –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 125 –Φ. ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ –≥―Ä―É–Ϋ―². –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤ –Μ―é–Κ ―¹–Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ, ―É–Ε–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ζ–Α―Ö–Μ–Β―¹―²–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η―²―¨ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―¹ ¬Ϊ–©βÄ™406¬Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù–Α―¹―²–Η–Ϋ –ï.–Γ., –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –ß–Β―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–≤ –Η –€–Β–¥–≤–Β–¥–Β–≤.
–ï―â―ë –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 60βÄ™70 –Φ. –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Η–Μ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―É. –û―² ―É–¥–Α―Ä–Α –Ψ –≥―Ä―É–Ϋ―² –Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–¥―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Μ―é–Κ –≤–Ψ –≤―¹–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β 6 –Η 7, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–¥―΄, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ζ–Α–Μ–Η–Μ–Ψ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Η, –Α–≥―Ä–Β–≥–Α―²―΄ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 30 –Φ–Η–Ϋ―É―² ¬Ϊ–©βÄ™405¬Μ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨. –ü―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Η–ΖβÄ™–Ζ–Α ―¹–Μ–Α–±―΄–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ 45βÄ™50 –≥―Ä–Α–¥. –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Η –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―² –Ϋ–Α 115 –Φ., –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―² ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―². –£–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥.
–ù–Ψ―΅―¨―é –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –¥–Μ―è –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ü–Ψ –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –±–Α–Ζ―É ―¹–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η ―É –Φ―΄―¹–Α –ö–Ψ―²―¹–Α―Ä–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α ―¹–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Β–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨. –†–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―΅–Η–Κ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ. –†–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Α―è–Κ ―à–Μ―é–Ω–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―É –±–Ψ―Ä―²–Α. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –≤–Ω–Μ–Α–≤―¨ –±―΄–Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –ï–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Ψ –±–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–©βÄ™405¬Μ. 13 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Ϋ―è―²–Α ―¹ –Φ–Β–Μ–Η, 15 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ϋ –Η –≤―¹―²–Α–Μ–Α –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―².
11 –Η―é–Μ―è 1942 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Α―΅―ë–≤―΄–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ. –î–Ψ –®–Β–Ω–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Κ –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α. –ï―ë –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―² –Ϋ–Α –Ψ. –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä. 15 –Η―é–Ϋ―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ. –ü–Β–Ϋ–Η―¹–Α―Ä–Η –Η –Ψ. –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―΄ ―²–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Κ –Ψ. –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä –Ω―Ä–Η–±–Η–Μ–Ψ ―²–Β–Μ–Ψ –™―Ä–Α―΅―ë–≤–Α. –ù–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Φ–Η–Ϋ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, –≤ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α―Ö –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–± –Α―²–Α–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Η –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1941 –≥., –Ϋ–Ψ ―¹ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η βÄ™ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Α –Ψ―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–¥―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ¬Μ.
–ö –Φ–Β―¹―²―É –±―É–¥–Β―², ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –ü―ë―²―Ä –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι: ¬Ϊ–Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Η–≤–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ¬Μ. –û―² ―¹–Β–±―è –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―é βÄ™ –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α.
–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α–Φ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –Ψ―² –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η: ¬Ϊ–Δ–Η―²–Α–Ϋ–Η–Κ¬Μ, ¬Ϊ–€–Η―Ö–Α–Η–Μ –¦–Β―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤¬Μ, ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤¬Μ. –ù–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η –≥–Η–±–Β–Μ–Η –±―΄–Μ –Η ―²/―Ö ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι¬Μ –≤ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Δ–Η―²–Α–Ϋ–Η–Κ―É¬Μ.
–ù–Α ―²/―Ö ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι¬Μ –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄–Φ –°―Ä–Α –†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ βÄî –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―é–Ζ–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Α–Ω―Ä–Α–¥–Β–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄî –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Α –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –±–Μ–Η―¹―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –ü–Ψ–±–Β–¥–Α–Φ–Η. –≠―²–Ψ –Κ ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ψ –°―Ä–Η–Η –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β –±―É–¥–Β―² –Β―â―ë ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ.
–î–Α–Ε–Β –ê–Μ–Μ–Α –ü―É–≥–Α―΅―ë–≤–Α –Η ―²–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ –Α–Ι―¹–±–Β―Ä–≥ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β¬Μ, –Α –≤–Ψ―² –î–Ε–Ψ–Ϋ –Γ–Φ–Η―² βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ¬Ϊ–Δ–Η―²–Α–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä―ë–≥. –· –±―΄–Μ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ: ¬Ϊ–Λ―ë–¥–Ψ―Ä –®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ¬Μ –±―΄–Μ –±–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Κ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –€–Α–Μ―¨―²–Η–Ι―¹–Κ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η –¥–≤―É―Ö –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄―Ö –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤, ―É–Ω―ë―Ä―à–Η―Ö –Β–Φ―É –≤ –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―², –Ψ―²―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ψ―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Μ―΄.
–ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―Ü―΄ βÄî ―ç―²–Η –Ϋ–Α–Η–¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η βÄî ―¹―΅–Η―²–Α―é―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ë–Ψ–≥–Α. –‰ –Φ–Ψ―è –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≤―¹―²–Α–≤–Κ–Α: ¬Ϊ–Γ–Α–Φ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è –¥―΄―Ä–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥―΄―Ä–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α.
–€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ –Ω–Η―à―É –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ?! –ù–Ψ, –¥―É–Φ–Α―é, –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –¥–Α―ë―² –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ.
|
|
7. –ë–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü―΄βÄ™–ë―Ä–Α―²―¨―è. –ë–Β–Ζ–Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö-–Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Η
| |
–†–Β―΅―¨ –Ψ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –€–Α―Ä–Α―²–Β –ö–Α–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Β (―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ –Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―à–Β –Η –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²–Η) –Η –Ψ –ö–Ψ–Μ–Β –Θ–¥–Α–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –£ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ ―²―Ä–Β–Φ―è –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –½–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α¬Μ. –€–Α―Ä–Α―² –Η–Φ–Β–Μ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ. –ê –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –≤ –Δ–û–£–£–€–Θ (–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –£―΄―¹―à–Β–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β) –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ê –¥–Α–Μ–Β–ΒβÄΠ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –û–¥–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É –ö–Α–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ335¬Μ.
–®―²―Ä–Η―Ö-–Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è. –€–Α―Ä–Α―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Η, –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤ ―¹–±―Ä–Η―²―¨ –±–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –î–Ψ–Φ –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α. –ù–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Β–Φ―É –≤ ―³–Ψ–Ι–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―² ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö―Ä–Η–≤–Ψ―Ä―É―΅–Κ–Ψ –·.–‰.
–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤: ¬Ϊ–½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ, –ö–Α–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤!¬Μ
–€–Α―Ä–Α―²: ¬Ϊ–½–¥―Ä–Α–≤–Η―è –Ε–Β–Μ–Α―é, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ¬Μ.
–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤: ¬Ϊ–ß―²–Ψ, ―²―΄ –±–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ, –Κ–Α–Κ ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è II¬Μ
–€–Α―Ä–Α―²: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Α –≤―¹–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Κ–Α–Κ ―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –‰–Μ―΄―΅–Α¬Μ.
–®―²―Ä–Η―Ö-–Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è. –Δ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –Α ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α. –€―΄ ―¹ –ö–Ψ–Μ–Β–Ι –Θ–¥–Α–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ βÄî –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ―΄–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―è―Ä―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ü–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η βÄî –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€.–ù. –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι―¹―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α. –‰ ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ.
–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤: ¬Ϊ–½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ, –ö–Α–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤!¬Μ.
–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Θ–¥–Α–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ: ¬Ϊ–· –Θ–¥–Α–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ¬Μ.
–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤: ¬Ϊ–î–Α, –Κ–Α–Κ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ, βÄ™ ―¹ –¥–Ψ―¹–Α–¥–Ψ–Ι, –Φ–Α―Ö–Ϋ―É–≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―à―ë–Μ –¥–Α–Μ―¨―à–Β.
|
|
8. –€–Α―²―É―à–Κ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α
| |
 –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ (―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Κ―É ¬Ϊ–≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄¬Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β―²), –Η―²–Α–Κ, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ϋ–Α –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Ψ–¥–Κ–Β –ö―É―Ä―¹–Κ (–ê–ü–¦ –ö-141). –ê –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η, ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–≤―è―²–Ψ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–ΨβÄ™–€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –Η―Ö –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Β–¥―Ä.
–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ (―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Κ―É ¬Ϊ–≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄¬Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β―²), –Η―²–Α–Κ, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ϋ–Α –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Ψ–¥–Κ–Β –ö―É―Ä―¹–Κ (–ê–ü–¦ –ö-141). –ê –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η, ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–≤―è―²–Ψ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–ΨβÄ™–€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –Η―Ö –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Β–¥―Ä.
–Γ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ―¨–Β –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―é―², –¥–Α –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è. –ù–Ψ –Κ―Ä―É―²―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –•–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―²―¨ –Η –≤―΄–±–Η–≤–Α―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Μ–Η―à―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ–Η ―É–Ζ–Α–Φ–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ―΄ –Ψ―â―É―â–Α–Β–Φ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –€–Α―²―É―à–Κ–Η –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ―΄. –£ –î–Ϋ–Η –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≤ –î–Ϋ–Η –Γ–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Δ―Ä―É–¥–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ–Β–Φ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Η¬Μ –€–Α―²―É―à–Κ–Α –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ–Ψ –Η ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –û–±–Η―²–Β–Μ–Η.
–€–Α―²―É―à–Κ―É –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ―É –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤–Ψ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –€–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –î–Β–Ϋ―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä―É―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –≤ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É―²–Α–Ϋ–Β. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –½–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ –≤–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η. –ê –Ψ–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –≥―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ βÄî –Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Ψ–± –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –ü―É―²–Η –Η –Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è―Ö –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, –Α ―è –Β―â―ë –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.
|
|
9. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É
| |
–Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É ―²–Β–Κ―¹―²–Α –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–ΑβÄΠ¬Μ, ―²–Ψ ―è –Ϋ–Α―΅–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―΄―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η.
–Δ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Φ―É–Μ―¨―²–Η–Ω–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ, –Ψ–±―â–Β–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Μ―É―΅―à―É―é –¥–Β―¹―è―²–Κ―É ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤ –Ξ–Ξ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è. –ê–≤―²–Ψ―Ä –Φ―É–Μ―¨―²―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Ψ–Φ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–£–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α¬Μ. –ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―É―é –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –°―Ä–Η–Ι –ù–Ψ―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι. –Γ–Α–Φ―΄–Β ―²–Η―²―É–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Φ―É–Μ―¨―²–Η–Ω–Μ–Η–Κ–Α―²–Ψ―Ä―΄ ―¹―΅–Η―²–Α―é―² ―¹–Β–±―è ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –ù–Ψ―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ–Α. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –±–Β–Ζ ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–Α...¬Μ –Φ–Η―Ä –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –±―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ―É–Μ―¨―²–Η–Ω–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η. –‰ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –±―΄ –Φ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β¬Μ ―¹ –Ϋ–Α–≤–Β―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η βÄ™ ¬ΪβÄΠ–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-―ë–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―èβÄΠ¬Μ
–ö―¹―²–Α―²–Η, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –°―Ä–Η–Β–Φ –ù–Ψ―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –û–¥–Β―¹―¹―΄ ―è –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Β–Φ―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–Α¬Μ.
–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –±–Β―¹―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Β―Ä―¨–Κ–Β, –±―É–¥―¨ ―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Β ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α, –Η–Μ–Η –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è –≤ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΅–Η–≤―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Κ–Η –Β–≥–Ψ ―³–Η–≥―É―Ä–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É–Ζ–Β–Μ–Κ–Ψ–Φ –Η –Ω–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ζ–Α ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä–≤–Α–Ϋ―²–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, ―Ä–Β–Μ–Η–Κ–≤–Η–Ι –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Μ–Η –Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –¥–Α―΅–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―¹–Μ―΄―à–Η―²―¹―è ―¹―²―É–Κ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ω―΄―²–Β―Ü –Ω–Ψ –Α―¹―³–Α–Μ―¨―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Β, ―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―é―¹―¨ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è.
–ê―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö115¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–™.–ï–Μ–Α–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–ê. –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ü. –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η –≤ –ë―É―Ö―²–Β –ß–Α–Ε–Φ–Α. –Δ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄, –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è. –ù–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à–Β–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –±―É–¥–Β―² –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-115¬Μ.
–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Μ―é–¥–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç―²–Α–Ω―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η: –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ―É–Ε–Α–Ϋ–Η–Β (–Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±–Α―Ö) –Η, –Κ–Α–Κ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―é. –ï―¹–Μ–Η ―è –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±–Α―é―¹―¨, ―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–≥ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Ψ―² –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ–Η).
–Ξ–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι –Η ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η –≤―¹–Β―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι.
–≠―²–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Η–Φ–Β―é―² ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η¬Μ. –£―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι –Η ―¹ –Ϋ–Β–Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹ –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β –Η–Μ–Η –≤ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ 2 ―¹―²–Α―²―¨–Η, –Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ –Κ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â―ë –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α―Ä―²―É―à–Κ–Η ―Ä–Β–Ω–Η―²–Β―Ä–Ψ–≤ –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ―è―Ü–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ―Ä―É―²―è―²―¹―è –Ϋ–Β –≤ ―²―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Κ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―è―², ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä―΄ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ―¹―²–Α –Η –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –†―É–±–Κ–Η. –ê –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.
–ï―¹–Μ–Η ―¹ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, ―²–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –‰ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α
–î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―è –≤―¹–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―Ö –Η ―Ä–Η―¹–Κ: –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η –Ω–Ψ ―ç―Ö–Ψ–Μ–Ψ―²―É. –ü―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –†–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹ –½–Α–Ι―Ü–Β–≤―΄–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –û–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η–≥―Ä–Α―Ö, –Ψ―²–Κ–Α―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η.
–ê 12-―²–Η―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―¹–Ϋ―è―²–Η―è ¬Ϊ–≥―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ¬Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι –Η ―ç―²–Ψ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β-–Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤, –¥–Α, –Η –≤ –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö ―¹ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ–Η ―²–Ψ–Ε–Β. –î–Μ―è –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–™–ö–Γ¬Μ, –Ζ–Α–Φ–Β―Ä ―à―É–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ –¥–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Β―â―ë –Η –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α–Φ –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ζ–Α –¥–≤–Β-―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ψ―²–Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Β–Ι –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Α.
–≠―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥ –Κ ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Β―â―ë ―¹ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ. –Δ–Α–Κ, –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β ¬Ϊ–ù–Ψ–Β–≤–Α –ö–Ψ–≤―΅–Β–≥–Α¬Μ (–Ω–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η–Η –Κ―É–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –û–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–≤–Α). –Δ–≤–Ψ―Ä―Ü―É –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―΄ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ ―Ö–Ψ–¥–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è, –Ϋ–Α –£―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Φ –Θ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ü―É―¹―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―²–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ―è―²¬Μ. –‰–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö, –Α –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―² –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅: ¬Ϊ–Γ―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ï–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨¬Μ.
–‰ –≤–Ψ―² ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Β–Ι –ê–¦–¦ ¬Ϊ–ö-115¬Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹―É―²–Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ψ–± –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ ―¹―²–Α―²―É―¹–Β ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è¬Μ. –‰–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≤ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ―Ä―É–≥–Α―Ö: –Ψ–± ¬Ϊ–Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ.
–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Α –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ϋ–Η –≤ –Β–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –û–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η―à―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α―²―¨, ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Ψ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö, –±–Β–Ζ–Ψ―²–Μ–Α–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä―É–Μ―¨ –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³―΄, –Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –Η –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Μ–Η. –‰ –≤―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Α –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ ―΅―ë–Φ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –≤ –£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –½–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―É–¥–Β―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Α ―²–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ: –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―ç―²–Ψ―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―â–Β–Ω–Β―²–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η–Ω–Ψ―¹―²–Α―¹―è―Ö –Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –‰ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄî –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö –±―΄–≤–Α–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β.
–ï―¹–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, ―²–Ψ –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―ë ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –Κ–Α–Ε―É―â–Β―é―¹―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―² –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Η–Ε–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Μ―É¬Μ - ―΅–Η―¹―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.
–î–≤–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Φ–Ϋ–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Α. –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –û–Κ–Β–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―É–Ζ–Κ–Ψ―¹―²―¨ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄. –· βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅. –‰–¥―ë–Φ –Ω–Ψ–¥ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Α–Ζ–Α–¥¬Μ. –ü―Ä–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β –Ε–Β ¬Ϊ―Ä–Β–≤–Β―Ä―¹–Α¬Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Ψ–Ι (–¥―Ä―É–≥–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―è –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ë–Φ–Κ–Η–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α) –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä―ë–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α. –ß―²–Ψ –Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –€–Α―Ä–Α―²–Ψ–Φ –ö–Α–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―É–Ζ–Κ–Ψ―¹―²–Η: ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Ψ―¹ –Η –Κ–Ψ―Ä–Φ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤. –î–Α, –Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É –¦–Α–Ω–Β―Ä―É–Ζ–Α, ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹–Β―²–Β–Ι, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ¬Ϊ–Ψ―²–Φ–Α―à–Κ―É¬Μ ―¹ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α.
–Δ―è–≥–Ψ–Φ–Ψ―²–Η–Ϋ–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–¥―Ä―É―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ι. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –ù.–ë. –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Ψ―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –¥–Α–≤–Α–Ι ―Ö–Ψ–¥ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ. –ê ―è –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à―É, ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ζ–Ψ―Ä –≤–¥–Α–Μ―¨. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ψ–Ω―è―²―¨: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –¥–Α–≤–Α–Ι ―Ö–Ψ–¥ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ. –‰ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ ¬Ϊ–Δ―Ä―ë―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤¬Μ –Η –Φ―΄ –≤ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ ―²–Α–Φ, –Α –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ. –ê –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–ù―É, ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―²―΄ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é G ..., –≥–¥–Β –Β–Ι –Μ―É―΅―à–Β ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Η–Μ–Η –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Β¬Μ. –Γ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Β–≤–Η―΅–Β–Φ, ―¹ ―ç―²–Η–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Β–Ι―à–Β–Ι –¥―É―à–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –‰ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β, –Φ–Ϋ–Β –≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –®―²–Α–±–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η ―¹ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≠–Φ–Η–Μ–Β–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ.
–£―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –‰–≤–Α–Ϋ―É –£–Α―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ: –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –±–Α–Ζ―É –Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É. –î–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ. –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É. –£―Ä–Β–Φ―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 16 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥ –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ―¹―è: –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―²―Ä–Β. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ¬Ϊ–Β–Μ–Ψ–Ζ–Η―²―¨¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Μ–Β–≤―΄–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―É―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α―΅―ë―²–Ϋ―É―é ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―É. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –Η ―¹ –Β–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η ―²–Β―Ö –Ε–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ω–Η―Ä―¹―É –Η –≤―¹―ë ―²–Β–Φ –Ε–Β –Μ–Β–≤―΄–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ.
–ö–Α–Κ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ, ―Ü–Β–Μ―è―â–Η–Ι―¹―è ―¹ ―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Μ–Β―²―è―â―É―é ―É―²–Κ―É, ―²–Α–Κ –Η ―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É –¥–Μ―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω―Ä–Α–≤―΄–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Α –Β―ë ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ.
–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ ―à–≤–Α―Ä―²―É–Β―à―¨―¹―è?¬Μ –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é: ¬Ϊ–¦–Β–≤―΄–Φ¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ ―à–≤–Α―Ä―²―É–Β―à―¨―¹―è?¬Μ –· ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Φ–Ψ: ¬Ϊ–¦–Β–≤―΄–Φ¬Μ. ¬Ϊ–ö–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Μ–Β–≤―΄–Φ?¬Μ - –≤–Ζ―Ä–Β–≤–Β–Μ –ù–®. –ù–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä–Β―²―¨―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²―É. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω–Η–Κ –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ –Ω–Η―Ä―¹–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Ψ―¹―É ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Η–Ϋ–Β―Ä―Ü–Η–Β–Ι –Ϋ–Β―¹―ë―²―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Β―Ü –Ω–Η―Ä―¹–Α. –ù–Ψ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―², –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ω―Ä–Η―²―΄–Κ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Μ–Β–≤―΄–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É. –ê –¥–Α–Μ–Β–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤: –Ψ―² –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α–Ζ–Α–¥¬Μ!!! –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –Μ–Η―à―¨ –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Φ―É, ―É–±–Β–Ε–¥–Α―è―¹―¨: ―²―É–¥–Α –Μ–Η, –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ, –≥–Ψ–Ϋ―è―² –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β –≤–Η–Ϋ―²―΄. –®–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Ϋ―΄, –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Ζ –±―Ä–Ψ―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤.
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.
–Γ–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ψ–±―É–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹―΄ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ- –Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ- –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –Β―â―ë –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―è–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η–Φ.
–‰―²–Α–Κ, –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-115¬Μ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ¬Ϊ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Μ–Η¬Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ê –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –≤―΄–≤–Β―¹–Κ–Η –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è: ―²–Ψ –Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β―¹–Ψ―Ö–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ω–Β–Μ―è―Ö –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β¬Μ, ―²–Ψ –Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ–Ι –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β. –ê –Ψ–Κ―É–Ϋ―É―²―¨ –Β―ë –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¨–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β.
–‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ: –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Φ–Α–Ϋ―ë–≤―Ä, –Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Φ–Α–Μ–Ψ–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β. –¦–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≥–Ϋ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―É. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―΅―ë―²–Κ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η–Μ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É. ¬Ϊ–Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥¬Μ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β –≤–Η–Ϋ―²―΄ ¬Ϊ–≤―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹¬Μ –Ϋ–Β ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η¬Μ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –£ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Ψ―¹―²―É –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ―É–Μ–Β–≤―É―é –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ―É, ―Ö–Ψ―²―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Φ –Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤–Ϋ–Η–Ζ. –‰ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –Π–ü –¥–Ψ–Ι–¥―É―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-57¬Μ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η –±―΄–Μ ―¹–Ϋ―è―² ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Α―²―É―¹ –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ö–Α–Κ –£―΄ ―É–Ε–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –‰ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ: –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω (–Ϋ–Β ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ ―΅–Α―¹, –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä –≤–Ψ–¥―΄ ―¹–Ψ–≥–Ϋ–Β―² –Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Κ―É). –Θ―¹–Ω–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β, –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Μ–Η –¥–Μ―è –Η―Ö –Ε–Β ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α –Η ―²–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹ –Ϋ–Α―΅–Ϋ―ë―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Μ―¨. –û―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―²―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ù–Α 50-―²–Η –Η ―¹―²–Α –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö: ¬Ϊ–û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨―¹―è –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö! –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι ―¹–≤–Ψ―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ.
–£―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Ψ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±–Β–Ζ–Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β - –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Η–Μ–Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É - –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Α ―¹–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ: ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι: ―à―²–Η–Μ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α, ―è―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨.
–£ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β ¬Ϊ–±–Α–±―¨–Β –Μ–Β―²–Ψ¬Μ. –Γ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ω–Κ–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α, ―¹ –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è–Φ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―¹―²–≤–Β, –Α –≤ –Ψ–±―Ä–Α–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Φ―΄, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –‰.–¦–Β–≤–Η―²–Α–Ϋ–Α. –ù–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Μ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥ ¬Ϊ–¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –≤–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –‰.–ê–Ι–≤–Α–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.
–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ê―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–¥. –£–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ–Α―è ―¹―²–Β–Ϋ–Α ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ζ–¥–Β―à–Ϋ–Η―Ö –Φ–Β―¹―². –ê –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –≤―¹–Β–Ι ―ç―²–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²―΄ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ... ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Β―² –Ϋ–Α―à –Κ―É―Ä―¹.
–‰, ―²–Α–Κ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –≥–¥–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Α―¹–Α―é―²―¹―è ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ ―¹ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –≤―¹―ë –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Β―Ä–Β–Β―², –≤–Β–Β―² ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ. –‰ ―É–Ε–Β –Φ―΄ –≤ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Φ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–Μ―¨. –™–¥–Β ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü? –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ! –ü–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄ –≤ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ. –¦–Β–≥–Μ–Η –≤ –¥―Ä–Β–Ι―³. –†–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²―΄ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―²: ¬Ϊ–Π–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β―²!¬Μ –û―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –Ζ–Α ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Α ―¹–Α–Φ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―é―¹―¨ –≤–Ϋ–Η–Ζ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²–Κ―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α –Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à―É―é―¹―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η –¥–≤―É―Ö ―à–Α–≥–Ψ–≤ –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Ψ―¹―²―É –Κ ―Ä―É–±–Κ–Β –Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É, ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Η―¹―²–Ψ―à–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α: ¬Ϊ–û–±–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ¬Μ –Γ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² ―²–Α―Ä–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Β–Ζ―¨―è–Ϋ, ―è, –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ, –≤ –¥–Ψ–Μ–Η ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α―é –≤–≤–Β―Ä―Ö –¥–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ―ë―²–Α –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ω–Α. –£–Η–Ε―É: –≤ 15-20-―²–Η –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö ―³–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Β–Ϋ―¨ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α, ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―¹–Κ―Ä―΄―² ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Η ―ç―²–Α ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨: –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Κ―É―Ä―¹–Α―Ö, –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –½–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄. –™–¥–Β ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü? –û–¥–Ϋ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ: –Ψ–Ϋ –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Ϋ–Η. –ù–Ψ –≥–¥–Β? –‰ ―²–Ψ―² –Ε–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―², –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η: ¬Ϊ30 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö ―¹ –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α –Η–¥–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹¬Μ. ¬Ϊ–¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è βÄî 28, 26, βÄΠ¬Μ - –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥.
–£–Ψ―² –Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-―ë–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –ï–Ε–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Β―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Μ–Β―¹―É. –· –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Κ–Β, ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η –Β–¥–≤–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–≤―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥―É, –Ϋ–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨―é –≤―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α.
–€–Ϋ–Ψ―é –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Ψ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨–Β: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –ö―É–¥–Α –Η–¥―²–Η?¬Μ –ê ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―² ―¹–≤–Ψ―ë: ¬Ϊ–¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è βÄî20 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö, 18,16, ...¬Μ –ê–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―²―΅―ë―² –Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α―é―â–Β–Ι―¹―è ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Β.
–Θ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Β―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Β―¹―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―² –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―É―¹―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α–Φ–Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ. –ù–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –Ϋ–Β –±–Β–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä–Α ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –ö.–€.–Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α ¬Ϊ–Θ–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨¬Μ, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –±―΄–Μ–Α ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è –Β–Μ–Β –≤–Η–¥–Η–Φ–Α―è –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Α―è –Μ–Α–≥―É–Ϋ–Α, –Κ―É–¥–Α –Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä―ë―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ, ―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β - ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α―²―΄―¹―è―΅–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ―â―¨ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ–Ι―²–Η ―¹ –Κ―É―Ä―¹–Α ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –¥–≤–Η–Ε―É―â–Β–≥–Ψ―¹―è.
–†–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –¥–Ψ ―Ü–Β–Μ–Η 12,10, ...¬Μ –ù–Ψ –≤–Ψ―² ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ¬Ϊ―²–Β–Ϋ–Η¬Μ –Η ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Φ ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β –Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Α. –ê–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Β–≥–Ψ ―É―¹–Β–Κ–Μ–Η. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β? –î–Α, –≤―¹―ë ―²–Α –Ε–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²–Α―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è: ―΅―²–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ βÄî ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ, –Α ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Β―². –‰–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É βÄî –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä.
–≠―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―²–Ψ–Ε–Β –≤―΄–Ε–Η–¥–Α–Μ. –ù–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―²–Β –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ, –Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι. –û–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.
–‰ –≤–Ψ―² –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³―΄: ¬Ϊ–Δ―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥!¬Μ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ βÄî –¥–Μ―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ–Β–≥–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α! –¦–Ψ–¥–Κ–Α, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–€–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –≤―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ¬Μ, –≤–Ζ–¥―΄–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≥–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¨―¹―è –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –¥–Α–Μ―¨. –Δ–Α–Κ –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Ω―Ä–Η–Ω–Α–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Η–Ϋ―²–Α–Φ–Η, ―Ä–≤–Α–Ϋ―É–Μ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤–Ζ–±―É–¥–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –±―΄―²–Η―è.
–ê ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-115¬Μ –£.–™. –ï–Μ–Α–Κ–Ψ–≤? –û–Ϋ! –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―É –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –Γ–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α –Η–Ζ ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α¬Μ βÄ™ ¬Ϊ–≤ ―É―é―²–Β –±–Β–Ζ–Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β¬Μ –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―². –ö―¹―²–Α―²–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ- –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê―Ä―¹–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ..., –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –±―΄―²―¨ –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ.
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ―΄–Φ –Ζ–≤–Β―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΅–Η–≤―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Κ–Α–Φ–Η. –ê –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Ζ –™–Ψ–Μ–Μ–Η–≤―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ¬Ϊ–Θ–±―Ä–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω¬Μ, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Α–Κ―²―ë―Ä–Ψ–Φ –ö–Β–Μ―¹–Η –™―Ä–Α–Φ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ―¹ –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Μ: ¬Ϊ–¦―é–±–Μ―é ―è ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É!¬Μ
|
|
10. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η βÄî –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η
| |
–Γ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Μ–Β―². –‰ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α―Ö –≤: –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β, –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –ü–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Γ–Α–Ϋ –î–Η–Β–≥–Ψ (–Γ–®–ê), –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β, –Δ―É―Ä―Ü–Η–Η, –‰―²–Α–Μ–Η–Η –Η –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Η–Β–≤–Β.
–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―â–Β–Β ―ç―²–Ψ―² –Φ–Η―Ä, –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Η –¥–Β–≤–Η–Ζ–Α―Ö –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ê–¥–Α–Μ―¨–±–Β―Ä―²–Α –®–Ϋ–Β–Β: "–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―É–Φ–Α―é―² –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É..., –Ϋ–Ψ –Φ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ϋ–Η–Ζ―É".
–≠―²–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―É–Ε –±–Β–Ζ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥. –ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Φ–Α–Μ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Μ–Η―Ü –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –≤ –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ–Β, –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –Φ―ç―Ä–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è. –£―²–Ψ―Ä―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α - –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Β. –ê–Μ–Φ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –·–Κ―É―²–Η–Η, –Λ.–ê –®―²―΄―Ä–Ψ–≤, –Β―¹–Μ–Η –Η –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Β–≥–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―²―΄―Ä–Ψ–≤ βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.

–ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α―Ö –ö–Η–Β–≤–Α –Η –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –î–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ϋ–Α―à –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –†–Α―³–Α–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η–Ϋ–Β–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£.–ï.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –†–Α―³–Α–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –±–Β–Ζ –Ψ–±–Η–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: "–û–¥–Ψ–±―Ä―è–Β–Φ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Φ!"
|
|
11. –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β
| |
19 –Φ–Α―Ä―²–Α 1906 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―é ―¹―É–¥–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―É―é 30 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1881 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –£–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤―É –±―΄–Μ–Η –≤–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è: –≤–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –≠―²–Α –¥–Α―²–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –î–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α–Φ–Η.
–£ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤ ―à–Μ–Η –Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―à–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨. –· –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Μ―¹―è –±―΄ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ 25-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η, –¥–Α –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β, –Ω–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –±―΄―²―¨ ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α-–Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι ―¹―É–Φ–Φ–Α―Ä–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Ζ―É –Ψ–±–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Ψ―²―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ê–ü–¦, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Ζ―É, –Φ―΄ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α–Μ–Κ–Β, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –±―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―Ü–Α–Φ–Η, ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α―Ö. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Η–¥―É―², –Α –Η―Ö –Ε―ë–Ϋ―΄ –Η –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ü―΄ –Η –Φ―É–Ε―¨―è ―¹–Μ―É–Ε–Α―² –≤ βÄ€–ü–û–î–†–ê–½–î–ï–¦–ï–ù–‰-–·–Ξ –û–Γ–û–ë–û–™–û –†–‰–Γ–ö–êβÄù. –ö–Α–Κ –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É: ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –ù.–ö.–€–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α –Η –ê.–€.–ö–Α―É―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –ü ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –½.–€.–½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α βÄ€–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤βÄù –ë.–ê.–ö–Ψ―²–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –Η―Ö –¥–Β–Μ–Α. –ê ―²–Α–Κ–Η―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –£.–ü –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –£.–™.–ë–Β―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –ù–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ βÄ™ –Β―¹―²―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ε–Β, ―΅―¨–Η –¥–Β―²–Η –Ϋ–Β ―à–Μ–Η –Ω–Ψ –Η―Ö ―¹―²–Ψ–Ω–Α–Φ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Η–Φ. –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ βÄ€–ë-90βÄù –ê.–Λ.–™–Μ–Β–±–Ψ–≤ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―²–Ω―Ä―΄―¹–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–±–Β―¹–Κ―Ä―΄–Μ―΄–Φ–Η¬Μ. –¦–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ€–ë-90βÄù –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–±–Β–Ζ―΄–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –•–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―Ü–Β–≤ –Η –≠.–Δ–Ψ–Μ–Κ―É–Ϋ.
–‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è, –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Μ–Β―²–Α―é―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Α―Ä–Η–Α―Ü–Η–Η –Η–Ζ βÄ€–£–Α―Ä―è–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―²―èβÄù –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―é–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤: βÄ€–€―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―΄βÄΠ ―É–Φ―Ä―ë–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β!βÄù –ù–Β―², ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–≤–Α–¥–Α, –Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η, –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β. –û―¹–Ψ–±―΄–Β –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―Ä–Η―¹–Κ–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η - ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–€–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Β –≤ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Β –Ω―É―΅–Κ–Η –Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Ι 380 –≤–Ψ–Μ―¨―² 500 –≥–Β―Ä―Ü –Η –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –≤–Μ–Α–≥–Α –Η –Ω–Α―Ä―΄ –Φ–Α―¹–Μ–Α, ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Α―é―â–Η–Β –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α (―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β―É―¹―΄–Ω–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ) - –≤―¹―è ―ç―²–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η –Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β - 20 ―²―΄―¹―è―΅ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―², –Α –Η―Ö –¥–≤–Α; 98 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α, –Α –Η―Ö –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≥–Α―é―â–Η―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é ―²–Ψ–Μ―â―É –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –‰ –≤―¹―è ―ç―²–Α –Φ–Α―¹―¹–Α, ―Ä–Α–≤–Ϋ–Α―è ―΅–Β―²―΄―Ä–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, –Κ–Α–Κ "–Δ–Α―Ä–Α―¹ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ", –Ϋ–Β―¹–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α.
–ê –Μ―é–¥–Η - –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―΅–≤–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―³–Ψ–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η ―΅–Β―²–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ö –Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –û–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄, ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β –Κ―É―Ä―²–Κ–Η. –ü–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―²–Μ–Α, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ¬Ϊ–≤–Α―Ä―è―²―¹―è¬Μ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Μ–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Η –≤ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β (–¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η).
–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι II, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ―É (―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –Β–Β ―¹ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α), –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ: "–ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―²–Ψ–Ω–Ϋ―É―²". –½–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ 28 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦.–™. –û―¹–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ–± ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ë–ß-V –¥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―΄–Φ–Β–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ "–Ψ―²―¹―²–Β–≥–Ϋ―É–Μ" –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –¥–≤―É―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ (–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†―É–Μ―é–Κ), ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –ß–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Α–Ε–Β –≤ ―ç―²–Η―Ö, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η –±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö.
–û–¥–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Μ―΄–±–Β–Μ―¨―é –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£ 1878 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Φ–Η―Ä–Β –±―΄–Μ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Β―ë –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Η–Φ. –½–Α―²–Β–Φ ―É–Ε–Β –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ψ–Ϋ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ 50 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –≤ –Φ–Η―Ä–Β ―¹–Β―Ä–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. 25 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ϋ–Α –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, 20 βÄ™ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ-–·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―² –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –±–Ψ―²–Η–Κ–Ψ–Φ.
–Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –û―²―¹―é–¥–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Η–Α―¹–Ω–Ψ―Ä–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―¹–Β–≤―à–Α―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β.
–ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö, –Λ–Μ–Ψ―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –≤ –€–Η―Ä–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –î–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―¹―²―΄ –Ϋ–Α –î―É–Ϋ–Α–Β, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–≤ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, –Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö-―²–Ψ –Η –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Η –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Η―Ä–Α―²–Α–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≥–¥–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ―è―²―¨―¹―è. –‰ –Β―â―ë, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨, –Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―² –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Η–Ι: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹ ―²–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―â–Η―² –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Ι –ù–ê–®–ï–ô –Γ–Θ–Ξ–û–ü–Θ–Δ–ù–û–ô –ü–¦–ê–ù–ï–Δ–û–ô¬Μ. –ö–Α–Κ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι - –¥―é–Ε–Η–Ι ―²–Β–±–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Μ–Α–±―΄–Ι, –Β―¹–Μ–Η –¥–≤–Ψ–Β¬Μ. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α βÄî –Ϋ–Α –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ―¹―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β, –Η –¥―Ä―É–≥–Α―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ–Β ¬Ϊ411-―è –ë–Α―²–Α―Ä–Β―è¬Μ.
–û–¥–Β―¹―¹–Κ–Α―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α, –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≥―Ä―É–¥–Η –Ζ–Α―¹–Η―è–Μ–Α –½–≤–Β–Ζ–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω–Β―Ä–Β–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –™ –™. –ö–Ψ―¹–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α 105 –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Γ–Α―à–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ω–Ψ–Η―¹–Κ ¬Ϊ–ü–Α–Φ―è―²―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Η―Ü–Α–Φ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α –≤―¹―ë –Ψ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –™–Β―Ä–Ψ―è. –£–Β―¹―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Β―²–Β–Μ–Α―¹―¨ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –û–¥–Β―¹―¹―΄. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Α –Η –Β―ë ¬Ϊ–Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Η–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ―΄ –≤ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥-–™–Β―Ä–Ψ–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―é –Ω–Ψ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ βÄ™ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –≤ –ü–Α–Φ―è―²–Η –Β–≥–Ψ –‰–Φ–Β–Ϋ–Η. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η–Ζ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Α–Μ–Β–Κ―²–Α: ¬ΪβÄΠ ―²–Α–Κ–Η - –¥–Α, –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –±―É–¥–Β―² –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α¬Μ. –£–Β―¹―¨ ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ζ–Α–Μ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è –≤ –Ψ–≤–Α―Ü–Η–Η βÄ™ –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ ―΅–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Α―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –ü–Α–Μ―¨–Φ–Η―Ä–Α –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ―É―é –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―é. –‰ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ -―²–Α–Κ–Η –¥–Α ―¹―²–Α–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ. –ï―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―à―²―Ä–Η―Ö –Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α. –ù–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Μ–Β―²–Η–Η –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö-–™–Β―Ä–Ψ―è―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –½–Ϋ–Α–Φ―è, –≤–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β –≤ 1945 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α–¥ –†–Β–Ι―Ö―¹―²–Α–≥–Ψ–Φ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ψ–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β 105 ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ―è.
–ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²―É ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ö–Ψ–Ω―¨–Β–≤–Α –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ (–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α) –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É β³• 1. –£–Ψ―² –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ω―Ä–Β–Β–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι: ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä―É –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β –Η –≤ –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –½–Α–≥–Ψ―Ä―É–Ι–Κ–Ψ - –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê.–‰. –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ. –≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –±―É–¥―É―΅–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η, ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―É–Φ–Β–Μ―΄–Φ–Η –Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η ―¹–Ω–Α―¹ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É (–ë-90), –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²―¨, –Ω–Α–¥–Α–Μ–Α –≤–Ϋ–Η–Ζ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –†–î–ü (―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι), –Α –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ―ë–Φ –±―΄–Μ–Ψ 5 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –‰ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―à―É―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η: ¬Ϊ–≠―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ 15 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Η–¥―ë―² –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―é―Ö–Η¬Μ. –½–Α–≥–Ψ―Ä―É–Ι–Κ–Ψ βÄ™ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –™–Β―Ä–Ψ–Β –û–¥–Β―¹―¹–Β.
–£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –û–¥–Β―¹―¹―΄, –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É ―¹ –€―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Β―΅–Β―²―¨―é, –Β―¹―²―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―É―é―²–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –Β–≥–ΨβÄΠ–Ϋ–Β―² –Ϋ–Β –Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –ü―Ä–Β–¥–Κ–Η –Β–≥–Ψ βÄ™ –Ζ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö βÄ€―΅–Α–Ι–Κ–Α―ÖβÄù ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ –¥–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―è, –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α―è ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –≤ ―É–Ε–Α―¹ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤. –ß–Β–Φ –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ –Η –Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ? –î–≤–Ψ―Ä–Η–Κ βÄî ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ―ë–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α―²―É―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ―è–Β―²! –‰ –≤–Ψ–¥–Α –Ε―É―Ä―΅–Η―² –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –≤ –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ –Μ–Η –ê―³―Ä–Ψ–¥–Η―²–Α, ―²–Ψ –Μ–Η –ê―¹―¹–Ψ–Μ―¨, –Ε–¥―É―â–Α―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –ê―Ä―²―É―Ä–Α –™―Ä–Β―è. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Α–Μ―΄―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤ βÄ™ –Μ–Β–≤―΄–Ι –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –Γ–Α–Φ –Γ–Α―à–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι. –ù–Α –≤―¹–Β―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Α –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Η –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ–Β.
–¦–Α―Ä–Η―¹–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –‰–Ζ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è-–Γ–Ϋ–Η―¹–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è¬Μ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-403¬Μ C–Β–Φ―ë–Ϋ―É –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –¦–Α―Ä–Η―¹–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Κ―Ä―É–Ω―É–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Ω―΄―²-–Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Α–≤–Β―²–Ψ–≤ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Α―Ä―Ö–Η–≤―΄ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ¬Ϊ–≥–Β―¹―²–Α–Ω–Ψ¬Μ, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –≥–¥–Β, –±―΄–Μ –Η –Γ.–‰. –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –£ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―â―É–Κ–Η¬Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―² –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ü–Β―²―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Β–Μ―¨―è–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω–Ψ–Φ –Ε–Β –™–Β―Ä–Ψ―è ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–©-403¬Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
–½–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Κ–Α–¥―Ä―΄ –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β βÄî ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ –Ω–Ψ―ë―²: βÄ€–£―¹―²–Α–≤–Α–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―èβÄΠβÄù –ü–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η. 1944 –≥–Ψ–¥. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–¦-18¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ) –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Β–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β: ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β-–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η-―²―Ä―ë―Ö–Κ–Μ–Α―à–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ –½–Ψ–Β –ö–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥–Β–Φ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι: βÄ€βÄΠ–Κ–Α–Κ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É –Δ–Α–Ϋ―é –≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹βÄΠβÄù. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü –±―΄–Μ–Α –Φ–Ψ―è –±―É–¥―É―â–Α―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –†―É–±–Α–Ϋ, –¥–Β–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β―Ü –Η–Ζ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –½–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –£–Μ–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Μ―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Β―² –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –ù–Ψ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Η–Φ–Β–Ϋ–Α. –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –ö―É―΅–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –ù–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Γ–Ψ―Ü–Η―É–Φ–Α¬Μ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α.
–ù–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –±–Β–Ζ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–Μ–Η―¹―²–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ–Β–Α―²―Ä–Α –û–Ω–Β―Ä―΄ –Η –ë–Α–Μ–Β―²–Α, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–ö–Ϋ―è–≥–Η–Ϋ–Η –û–Μ―¨–≥–Η¬Μ, –¦―é–¥–Φ–Η–Μ―΄ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ―΄ –®–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ (–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Α–Ω–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Α):
¬Ϊ–ù–Α–¥ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Ψ–Φ ―²―É–Φ–Α–Ϋ,
–≤ ―¹–Η–Ϋ–Β–Ι –¥―΄–Φ–Κ–Β –¥–Ψ–Φ–Α,
–Α –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α, ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α
–¥–Α –Ψ–≥–Ϋ–Η –Φ–Α―è–Κ–Ψ–≤βÄΠβÄù.
βÄ€βÄΠ –Η ―É–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–¥–Α―²―¨ –Η –Ψ–Ω―è―²―¨, –Η –Ψ–Ω―è―²―¨βÄΠβÄù.
–≠―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –¥–Μ―è –Ε―ë–Ϋ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Α–±―¹―²―Ä–Α–Κ―Ü–Η―è. –Δ–Α–Κ –¦―é–¥–Ψ―΅–Κ–Α –®–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –Ε–¥–Α–Μ–Α –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Α βÄ™ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-108¬Μ –·―à―É –ü–Μ―É–≥–Α―²–Α―Ä―ë–≤–Α, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α –·–Κ–Ψ–≤–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-131¬Μ.
–£ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Η–Α―¹–Ω–Ψ―Ä–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ ―Ä―è–¥―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –≠―²–Ψ: –·–Κ–Ψ–≤ –ü–Μ―É–≥–Α―²–Α―Ä–Β–≤ βÄ™ –Ζ–Α–Φ–¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Δ–Β–Α―²―Ä–Α –û–Ω–Β―Ä―΄ –Η –ë–Α–Μ–Β―²–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-V –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–±–Ψ―Ä―¨―é, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ß–Α–Ω–Μ―΄–≥–Η–Ϋ - –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –ù–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –Θ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α - –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –û―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι, –≤ –Φ–Η―Ä―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 1-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η, ―¹–Ω–Β―Ü ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―² ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –ê–ü–¦ ―²–Η–Ω–Α "–ö―É―Ä―¹–Κ", ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–Κ―É―Ä–Ψ―Ä –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –€–Β–Ζ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ (–ü–¦ ¬Ϊ–Γ-46¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –™–Β–Β–Κ –≠–¥–≥–Α―Ä –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅). –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β―â–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι.
–£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Β―â―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤: –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–Κ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –ü–¦, –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι, –Ε―ë–Ϋ―΄ –Η –≤–¥–Ψ–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –î–Ϋ―è –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –û–¥–Β―¹―¹―΄. –‰ ―ç―²–Ψ―² –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –û–±―â–Β–Ϋ–Η―è –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―É–Ε –≥–Ψ–¥ !!!) –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―² –¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ö–Α―Ä–Β–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ü–Β―²–Ψ―è–Ϋ. –î―Ä―É–Ε–±–Α ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –Β―â―ë –≤ –¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Φ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ―ë―¹ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –£–Ψ–Ι―¹–Κ–Α―Ö –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―è –Φ–Β―¹―²–Α –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–‰ –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η: –Κ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―΅–Κ–Β –Φ―ë–¥–Α –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –¥–Α –Η –Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―² ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–Ε–Κ–Ψ–Ι –¥―ë–≥―²―è: –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ε–¥–Η –Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –û–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –î–Ϋ―è –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ –±―É–¥–Β―², –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Η–Ζ –Θ―¹―²–Α–≤–Α –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η: ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ψ―²–¥–Α―ë―² –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –¥–≤―É―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤?¬Μ (–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β βÄ™ –¥–≤―É―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α). –û―²–≤–Β―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ―΄–Ι: ¬Ϊ–Δ–Ψ―², –Κ―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ¬Μ. –Θ –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α, ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Γ―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α (–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ) –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤–Α –½–≤–Β―Ä―à–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹―é–Κ–Α βÄ™ ―¹ –Ϋ–Η―Ö, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―è –≤ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –û–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ –Η―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―É–Ω–Α–Μ–Η.
–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ß–Α–Ω–Μ―΄–≥–Η–Ϋ―΄–Φ –≤ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –±―΄–Μ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ ―¹―²–Β–Ϋ–¥ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –Κ–Ψ–Β ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤. –¦―É―΅―à–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –ü―Ä–Η–Ζ–Α–Φ–Η, –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Α–Φ–Η.
–Ξ–Ψ―΅―É –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ―É –¥–Β―²–Α–Μ―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–Φ―É –û–±―â–Β―¹―²–≤―É –û–¥–Β―¹―¹―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―²–Η―²―É–Μ―΄ –Η ―Ä–Β–≥–Α–Μ–Η–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η―². –£–Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö:
 –ö―Ä–Η―¹–Η–Μ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅,
–ö―Ä–Η―¹–Η–Μ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅,
–Κ–Α–Ϋ–¥. ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅. –Ϋ–Α―É–Κ, –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―² –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α;
–ß–Μ–Β–Ϋ-–Κ–Ψ―Ä―Ä. –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ;
–ß–Μ–Β–Ϋ –ë–Α–Μ–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≠–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η (BEnA);
–ù–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –‰–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥;
–û–±–Μ–Α–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –ù–ê–ù–Θ –Η –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η―²―É–Μ–Α Honorable Researcher –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Η –Β–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ (ITHEA)
–Η ―².–¥. –Η ―².–Ω
–½–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è ―ç―²–Ψ―² –Φ–Α―¹―²–Η―²―΄–Ι ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É–±–Ψ―Ä–Η―¹―²―΄–Φ –Ω–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Ϋ–Ψ―²–Β. –ù–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ:
–£–ï–Δ–ï–†–ê–ù–ê–€ βÄ™ –ü–û–î–£–û–î–ù–‰–ö–ê–€
(–Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Β
–≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –î–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η βÄ™ –≤ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―è―Ö)
–· βÄ™ ―¹–≤―è–Ζ―¨, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è, ―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Β –±―΄–ΜβÄΠ
–î–Α–≤–Α–Ι –Ζ–Α ―²–Β―Ö –±–Ψ–Κ–Α–Μ –Ω–Ψ–¥―΄–Φ–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι,
–ö―²–Ψ ―²–Α–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄ –≤–Η–¥–Η―² –Ϋ–Β–±–Ψ!
βÄ™ –½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι!
–£–Α–Φ ―¹–Μ–Α–≤–Α –Ϋ–Β –¥–Α–Β―²―¹―è –¥–Α―Ä–Ψ–Φ.
–ü―É―¹―²―¨ –ë–Ψ–≥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι
–Ξ―Ä–Α–Ϋ–Η―² –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ –Η –Ψ―² –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ–≤
–£―¹–Β―Ö ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι!
–ß―²–Ψ–± ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄,
–ß―²–Ψ–± –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ―¹―¨,
–ß―²–Ψ–± –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –ù–Β–Φ–Ψ,
–‰ ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ, –Η ―΅―²–Ψ–± –≤―¹–Β βÄ™ –Ϋ–Α ¬Ϊ―²–Ψ–≤―¹―¨¬Μ!
–£ –±–Ψ―é –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ψ–≤–Β―Ä―à―²–Α–≥–Α,
–ù–Β –¥–Α–Ι –ë–Ψ–≥ βÄ™ –Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η–Μ―¨, ―²–Ψ–≥–ΨβÄΠ
–ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, βÄ™ ―è ―¹―Ä–Β–¥―¨ –≤–Α―¹ ―¹–Α–Μ–Α–≥–Α,
–· βÄ™ ―¹ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ;
–ù–Β –≤―΄―à–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ–Φ,
–™―Ä–Ψ―², ―à–Μ―é–Ω ¬Ϊ–€–Β―΅―²–Α¬Μ βÄ™ –≤–Ψ―² –Φ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―²,
–‰ –≤–≥–Μ―É–±―¨ ―Ö–Ψ–Ε―É –Μ–Η―à―¨ ―¹ –Α–Κ–≤–Α–Μ–Α–Ϋ–≥–Ψ–Φ,
–‰ ―¹ ―²―Ä―É–±–Κ–Ψ–Ι βÄ™ 56 –Μ–Β―²!
–ü―É―¹―²―¨ –≤ –≤–Α―¹ –Ε–Η–≤–Β―² ―É–Ω–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Η,
–ê–Ζ–Α―Ä―² ―¹ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι,
–†–Β–Α–Κ―Ü–Η―è, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä, –≤–Ψ–Μ―è, βÄ™
–£―¹–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι!
–ü―É―¹―²―¨ –±–Β–¥―΄ –Φ–Η–Ϋ―É―² –≤―¹–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β,
–‰ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Ψ–≤–Β–Φ –±–Β–¥–Ψ–Ι,
–‰ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ω―É―¹―²―¨ –Ω–Ψ―è―Ä―΅–Β ―¹–≤–Β―²–Η―²
–£―¹–Β–Φ ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι!
–ü―É―¹―²―¨ ―¹–Η–Μ–Α –≤―΄―¹―à–Α―è –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¹―è,
–‰ –Ω―É―¹―²―¨ –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι:
βÄ™ –ü―É―¹–Κ–Α–Ι ¬Ϊ–Ζ–Β–Φ–Μ―è¬Μ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¹―è,
–ö–Α–Κ ―²–Β, –Κ―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι!
βÄΠ–‰ –Ω―É―¹―²―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α –Κ―Ä–Α–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η
–Γ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–¥―É―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η!
–ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ö―Ä–Η―¹–Η–Μ–Ψ–≤,
–û–¥–Β―¹―¹–Α, –Φ–Α―Ä―², 2012
–ù–Α―΅–Α–≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ –ü–Ψ–Μ–¥–Β–Ϋ―¨, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –û–¥–Β―¹―¹–Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Α–Ϋ―¨ ―¹ ―É―²―Ä–Α 19 –Φ–Α―Ä―²–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α–Φ: –Κ–Ψ–Φ―É –Η –Κ–Α–Κ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Η –±–Μ–Η–Ε–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –€–Ψ―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Ϋ–Α –ê–Μ–Μ–Β–Β –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Η ―É –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Γ–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –î–Ϋ―è –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –€–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€–Ψ―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Γ–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É―é ―ç―¹―²–Α―³–Β―²―É –Η–Φ. –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤―Ä―É―΅–Α–Μ–Η –¥–Β―²―è–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η.
–ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ βÄ™ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤ –î–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, ―É–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―ç―¹―²–Α―³–Β―²–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –û–¥–Β―¹―¹―΄, –‰–Μ―¨–Η―΅―ë–≤―¹–Κ–Α –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –‰–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –û–¥–Β―¹―¹―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ. –€–Ψ―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –½–Α–≥–Ψ―Ä―É–Ι–Κ–Ψ –Η –¥–Ψ―΅―¨ –€–Ψ―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ βÄ™ –≠–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Α.
–ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –î–Ϋ―è –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –î–Β–≤–Η–Ζ–Ψ–Φ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ.
–€–Α―Ä―¹–Β–Μ―¨–Β–Ζ–Α βÄ™ –£–Β–Μ–Η―΅–Α–≤―à–Η–Ι –™–Η–Φ–Ϋ. –™–Η–Φ–Ϋ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ö–Μ―é―΅–Β–≤–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –≤ –Ϋ―ë–Φ βÄî –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ.
–î–Α, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―Ä–Α –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Ψ―² –Η–Ζ–±–Η―²―΄―Ö, ―¹―É―Ö–Η―Ö, ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ, ¬Ϊ–û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è¬Μ, ¬Ϊ–ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―è¬Μ. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è ―É –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―¹―²–Ψ–≤-―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ω–Ψ–Ε–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –ë–Α–Κ–Μ–Α–Ϋ–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Ψ―²―΄ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α, ―É–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η.
–ù–Α―à–Β –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β―² ―É–Ε–Β
–€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –½–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨!
|
|
12. –°―Ä–Η–Ι –†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ
| |
–Θ–Ι–¥―è ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–≤–Κ―É –≠―¹―¹–Β, ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–Κ–Μ―é―΅–Α―é―¹―¨ –Ψ―² –≤―¹–Β–Ι –≤–Η―²–Α―é―â–Β–Ι –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η. –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ. –‰, –Κ–Α–Κ ―É–≥–Ψ–Μ–Β–Κ –Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ–Β, –Ϋ–Β―¹―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ–Ψ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² ―¹–≤–Ψ―ë –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.
–£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–ΨβÄΠ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. –£ –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –î–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ β³• 14, ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä 57 –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é:
–ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –£―¹–Β―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ
–Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤ –ü―Ä–Η–Ϋ―Ü –ê–¦–ï–ö–Γ–ï–ô

–£ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ ―è ―É–Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ –Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄―Ö ―ç–Ω–Ψ―Ö: ¬Ϊ–ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Η–Α–Μ–Β–Κ―²–Η–Κ–Η, ―è–≤–Μ―è―è―¹―¨ –Β―ë ―¹―É―²―¨―é –Η ¬Ϊ―è–¥―Ä–Ψ–Φ¬Μ, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η–Β –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι –Η –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Η–Ι –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è¬Μ.
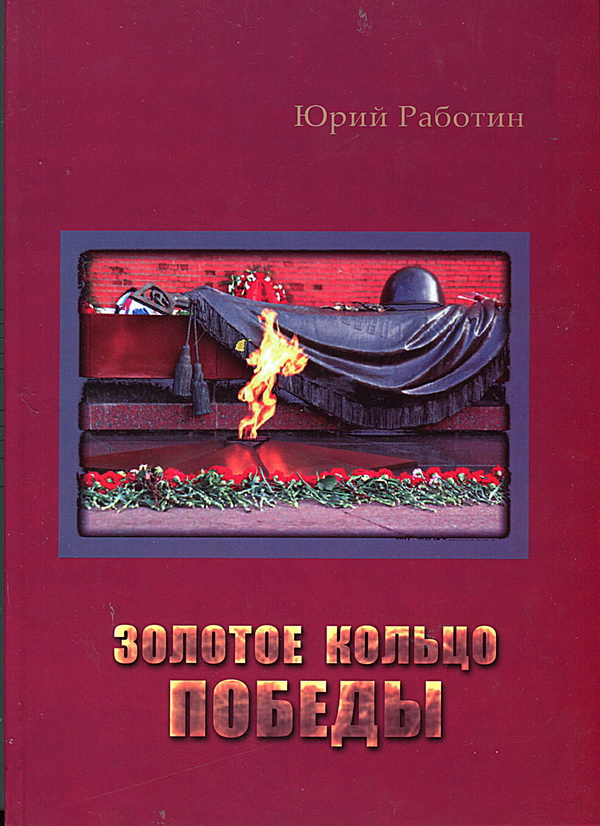 –‰―²–Α–Κ, –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –°―Ä–Η–Ι –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ, ―É―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ–±–Β–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ, –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –≤―¹―é ―Ü–Β–Ω―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Β―ë ―²–Α–Ι–Ϋ. –≠―²–Ψ –Η –Κ–Α―²–Α–Κ–Ψ–Φ–±―΄, –Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Μ–≥–Μ –Ω–Ψ―ç―²–Α –û–≤–Η–¥–Η―è –ù–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―â–Η–Ϋ–Β, –Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –û–¥–Β―¹―¹―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –î–Ε―É–Ζ–Β–Ω–Ω–Β –™–Α―Ä–Η–±–Α–Μ―¨–¥–Η, –≤–Ω–Η―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±―è –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –¥―É―Ö –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄, –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ-―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ βÄî –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –‰―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ–Κ.
–ê –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –ü―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ –†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ –≤―΄–≤–Β–Μ –Η–Ζ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤.
–‰―²–Α–Κ, –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –°―Ä–Η–Ι –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ, ―É―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ–±–Β–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ, –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –≤―¹―é ―Ü–Β–Ω―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Β―ë ―²–Α–Ι–Ϋ. –≠―²–Ψ –Η –Κ–Α―²–Α–Κ–Ψ–Φ–±―΄, –Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Μ–≥–Μ –Ω–Ψ―ç―²–Α –û–≤–Η–¥–Η―è –ù–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―â–Η–Ϋ–Β, –Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –û–¥–Β―¹―¹―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –î–Ε―É–Ζ–Β–Ω–Ω–Β –™–Α―Ä–Η–±–Α–Μ―¨–¥–Η, –≤–Ω–Η―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±―è –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –¥―É―Ö –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄, –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ-―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ βÄî –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –‰―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ–Κ.
–ê –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –ü―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ –†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ –≤―΄–≤–Β–Μ –Η–Ζ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤.
–‰ ―¹–Α–Φ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Η –Β–≥–Ψ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹. –û–±―΄―΅–Ϋ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è –ê―Ä―Ö–Β―²–Η–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Α―è –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è, –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –≤ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α―Ö, –≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö. –‰ –±–Β–Ζ―É–¥–Β―Ä–Ε–Ϋ–Α―è ―²―è–≥–Α –Κ –Φ–Ψ―Ä―éβÄΠ –ö ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?! –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Α–≤–Β―è–Μ–Α –Ω–Β―¹–Ϋ―è –ü–Α–≤–Μ–Α –ö–Ψ–≥–Α–Ϋ–Α –Η –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –¦–Β–Ω―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –±–Α―Ä–¥–Α –°―Ä–Η―è –£–Η–Ζ–±–Ψ―Ä–Α:
¬Ϊ–£–Ψ ―³–Μ–Η–±―É―¹―²―¨–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ ―¹–Η–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –ë―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Α―Ä―É―¹–Α...¬Μ
–‰–Μ–Η –Ε–Β –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β:
 –ê–Ϋ, –Ϋ–Β―²! –≠―²–Ψ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Η―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –£―Ä―É–Ϋ–≥–Β–Μ―è¬Μ, –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η 12 –Μ–Β―² βÄ™ ―é–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β 90 –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Γ–ö–† ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ, –Α –≤ 15 –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –£–£–€–ü–Θ (–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β). –ö–Ϋ–Η–≥–Α –ê.–Γ.–ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―É ―ç–Κ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α―è –ö-14¬Μ. –û ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ.
–ê–Ϋ, –Ϋ–Β―²! –≠―²–Ψ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Η―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –£―Ä―É–Ϋ–≥–Β–Μ―è¬Μ, –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η 12 –Μ–Β―² βÄ™ ―é–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β 90 –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Γ–ö–† ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ, –Α –≤ 15 –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –£–£–€–ü–Θ (–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β). –ö–Ϋ–Η–≥–Α –ê.–Γ.–ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―É ―ç–Κ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α―è –ö-14¬Μ. –û ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ.
–Θ –°―Ä―΄ –Ε–Β –†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ–Α –≤―¹―ë –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –£–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –î–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―΅―¨―é ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –Ψ–Ϋ –≤―΄–¥–Α–Ϋ βÄ™ –ï–≥–Ψ –ü―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É –°―Ä–Η―é –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅―É –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤―É-–†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ―É. –½–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è!!! –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η –Γ–Η–Μ–Α –£―΄―¹―à–Β–Ι –™–Β–Ϋ–Β―²–Η–Κ–Η –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Α βÄ™ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι. –£―΄, –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ–Η―²–Β –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É, –≥–¥–Β –≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Α –Γ–Μ–Α–≤–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ―¹―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Α–≥ βÄ™ –‰–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –‰―²–Α–Μ–Η–Η.
–ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è –¥―É―Ö–Ψ–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―²–Β―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι.
–ê. –£. –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ –≤–Ζ―è―²–Η–Η –Ψ. –ö–Ψ―Ä―³―É, –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ ¬Ϊ–Θ―Ä–Α! –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É! –· ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ―¹–Α–Φ ―¹–Β–±–Β: ¬Ϊ–½–Α―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―è –Ω―Ä–Η –ö–Ψ―Ä―³―É ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ?¬Μ. –Γ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –Δ―É―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―¹―É–Μ―²–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤―É –±―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Β–Ϋ–≥, ―¹–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―é ―à―É–±―É –Η ―²―΄―¹―è―΅―É ―΅–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ βÄ™ 3,5 ―²―΄―¹―è―΅–Η ―΅–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤. –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ü–Α–≤–Β–Μ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, ―΅–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–€―΄ –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Μ–Η―à―¨ –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η, ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Β, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –±―΄ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥―ɬΜ.
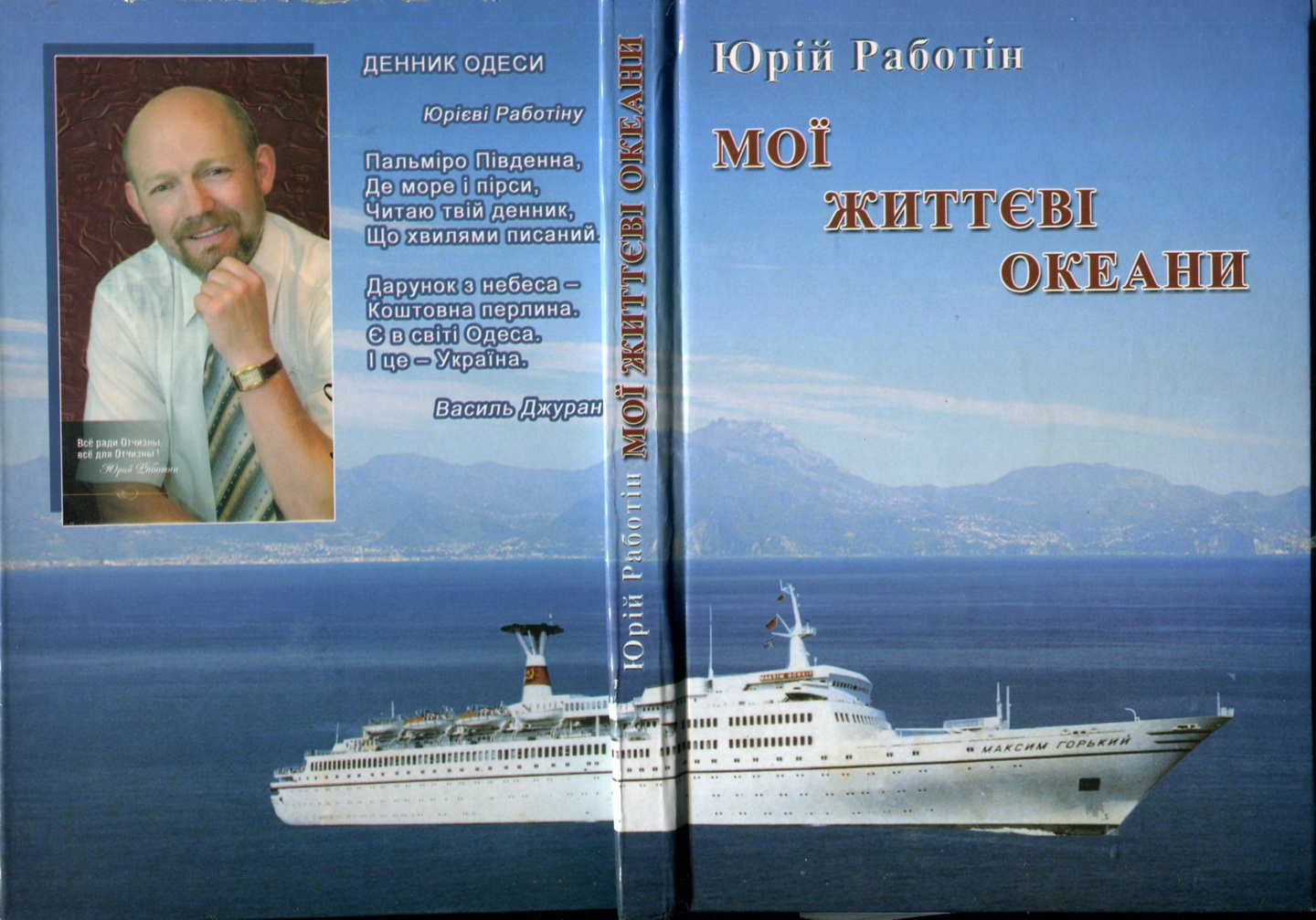
–‰ –¥–Α–Μ–Β–ΒβÄΠ –· –Ϋ–Β –Φ–Η―¹―²–Η–Κ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É: –‰―²–Α–Μ–Η―è, –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –‰–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –£ ―ç―²–Η―Ö –Ε–Β –Κ―Ä–Α―è―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –°―Ä–Α –†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ, –±―É–¥―É―â–Η–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Β―â―ë –Ϋ–Β–Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―³–Η―¹, –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Η–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―²/―Ö ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ―è–Ε –≤ –‰―²–Α–Μ–Η–Η, –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄.
–û–¥–Β―¹―¹–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–Μ –ü―Ä–Β―¹―¹-―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, –≥–¥–Β ―¹ –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω―Ä–Β―¹―¹-–Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –±―Ä–Η―³–Η–Ϋ–≥–Η, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ―¹–Α–Φ–Φ–Η―²―΄. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤ –Ϋ―ë–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ ―¹ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–Ι –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α.
–û–¥–Β―¹―¹–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –‰ ―ç―²–Η–Φ –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è!!! –ï–≥–Ψ –ü―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤-–†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Η―². –û–Ϋ –Η –≤ –¥–Β–Μ–Α―Ö, –Η –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Α―Ö –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Β–¥–Κ–Α. –Ξ–Ψ―΅―É –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨. –Γ–Α–Φ –ü―Ä–Β―¹―¹ –Π–Β–Ϋ―²―Ä –û–†–û –ù–Γ–•–Θ –Η –Ω―Ä–Η–Μ–Β–Ε–Α―â–Α―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Η ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α. –‰ –Φ―΄ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –≤–Η–¥–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –‰―Ö –ü―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ ―à–≤–Α–±―Ä–Ψ–Ι –Η –≤–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²―Ä―è–Ω–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Α–Ω–Κ–Ψ–Ι –Η –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ.
|
|
13. –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β
| |
–î–Α, –Ω―Ä–Α–≤ –±―΄–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–≥–Ψ–Μ―¨: ¬Ϊ–ù–Β –≤―¹―è–Κ–Α―è –Ω―²–Η―Ü–Α –¥–Ψ–Μ–Β―²–Η―² –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –î–Ϋi–Ω―Ä–Α!¬Μ –ù–Ψ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –î–Ϋ–Β–Ω―Ä ―¹ –î―É–Ϋ–Α–Β–Φ –Η –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ―Ä–Β–Κ–Η –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ–± –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Η –Ϋ–Α –Μ–Η–±–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ 400-–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–±―É―¹–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹–Β βÄ™ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄.
–ü―Ä–Η–±―΄–≤ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι 42 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤ ―¹ –Ξ–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É –ù–Α―à–Β–Ι –î–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄ βÄ™ –ö–Η–Β–≤. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹–Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–Μ–Β―²–Β―²―¨ –¥–Ψ –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Η ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Ψ –Β―ë –Ωi–≤–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –ï―¹–Μ–Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η ―ç―²–Ψ―² –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ―ë―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Φ―ç―Ä–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –°―Ä–Η―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –¦―É–Ε–Κ–Ψ–≤–Α (¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ϋ―΄–Β¬Μ, ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–Μ―ë―²–Ϋ―΄–Β¬Μ, ¬Ϊ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β¬Μ –Η –Ω―Ä.) –Η –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, ―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―΅–Η―¹―²–Ψ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Β. –‰ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η–Ϋ–Α―΅–Β?!
–£ –û–¥–Β―¹―¹–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É (–Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –≤―¹–Β―Ö –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–≤) –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ 41-–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ βÄ™ –Μ―É―΅―à–Η–Ι –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö 40-–Κ–Α. –ê, –Ζ–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, ―¹–Κ–Α–Ε―É: ¬Ϊ–ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι - –Ϋ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Μ―é―¹–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Η―¹―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è―Ä–Κ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –™–Μ–Α–≤―΄ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι –¥–Α–Ε–Β –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Ψ–±―â–Β–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Μ–Β 2009 –≥–Ψ–¥–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β¬Μ. –£–Η–¥–Β–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ε–Β –Ψ–± –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η –î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤ –Η ―ç―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –€―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η-–Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Φ―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Λ–Ψ―Ä―É–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Ζ–≤―É―΅–Α–Ϋ–Η–Β, –¥–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α―è–≤–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Β, –Α –û–¥–Β―¹―¹–Β βÄî –Κ–Α–Κ –Ψ –Β―ë –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α―Ö –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α.
–™–Ψ―²–Ψ–≤―è―¹―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (15-―²–Η―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ―ë―² βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι ―¹–≤–Β―² –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Α–Φ), –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Β―â―ë –Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β.
–î–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α 42 –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≥. –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –¦–Η–≤―à–Η―Ü, –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±―΄–≤―à–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η: –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –≠―Ä–Μ–Β–Ϋ –ë–Β–Ι–Μ–Η―¹, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –ë–ß-V –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η –Α–≤―²–Ψ―Ä ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Α–±―É―Ä–Ψ–≤, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –ê.–‰. –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η –ù–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α –¦―É―â–Α–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι, –Β―ë ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –≤–Β–¥―É―â–Η–Β –Η –Κ–Μ―é―΅–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄, –Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹―³–Β―Ä–Β ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Η―²–Β, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ. –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ (―²–Α–Κ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―ç―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β) –Β―â―ë –Η ―²―ë–Ζ–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α βÄ™ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ⳕ1 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, ―΅―¨―ë –Η–Φ―è –Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β (―΅–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –Ω―Ä–Β–Β–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι).
–ù–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―²–Α–Φ 15 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Α –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 12 –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤ –€–Α–¥―Ä–Η–¥–Β –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä–Β–Ι―¹–Α–Φ–Η, –Η –Φ―΄ ―É–Ε–Β –≤ –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹–Β βÄ™ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄. –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Α―É–Ζ–Α –Η ―²–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η –Η –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β―¹―²–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Ψ―Ä–≥–Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α―¹ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Α–Φ. –î–Μ―è –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Α, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Η―à―É―â–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Ψ–Ι –ö–Μ–Α―É―¹―¹–Ψ–Φ –€–Α―²―²–Β―¹–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Β―â―ë ―²–Ψ–Ι –¥–Η―¹–Κ―É―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Α―΅–Α―²–Ψ–Ι –≤ 2000 –≥–Ψ–¥―É –≤ –Γ.–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ϋ–Α 37-–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β. –Γ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η βÄ™ –≤―¹―ë –Ψ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β: –Ψ –ü–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β βÄ™ ¬Ϊ–ê―²–Α–Κ–Β –£–Β–Κ–Α¬Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Β–Φ–Η–Κ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β–Φ: –ê―²–Α–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ–Ι, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Α―à–Α ―¹ –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ ―¹―²–Α―²―¨―è: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Η–≥ –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Β–≤–Β―Ä―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Ψ–Φ―É¬Μ, –Κ–Α–Κ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –ê.–‰.–Θ―ë–Φ–Ψ–≤–Α, –Β―¹–Μ–Η –Η –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α―à―É ¬Ϊ–≤–Β―Ä―É¬Μ, ―²–Ψ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –ê–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹.
–ü―è―²–Η―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥ –Η–Ζ –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –€–Α―Ä-–¥–Β–Μ―¨-–ü–Μ–Α―²–Α –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É, –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é ―¹―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –û–¥–Β―¹―¹–Α βÄ™ –ö–Η–Β–≤ ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Μ–Η―à―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –¥–Μ―è –Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Β―Ä–≤–Η―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. –£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ε–Β –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β –±―΄–Μ–Η –≤―¹–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–Β―Ä―Ü–Α–Ϋ–Η―é –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± ―É–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ.
–†–Α–±–Ψ―²–Α―è –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Φ–Α, –Η–Φ–Β―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–±–Α–≥–Α–Ε¬Μ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ ―²–Β–Φ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨―è–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η―²―¨ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η―Ü: –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ―΄ –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –†–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Η –Η―Ö –≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β. –ü–Β―Ä–≤–Α―è βÄ™ –Α–¥–≤–Ψ–Κ–Α―², ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ –Β―ë –Ω―Ä–Α–Ω―Ä–Α–¥–Β–¥, –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ, –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –ü–Β―Ä–Β―¹―΄–Ω–Η. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é –•–Β–Ϋ―é –™–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –£―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Μ―É–±–Α –û–¥–Β―¹―¹–Η―²–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ.
–Δ–Α–Ϋ–Β―΅–Κ–Α –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α βÄ™ –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥. –ü―è―²―¨ –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α –ö–Η–Β–≤. –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Β―ë –±–Β–Ζ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ, –Α –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄ –Η –Β―ë –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Η ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. –•–Α–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―Ü–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―¹ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ –ê―¹–Η–Κ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α.
–‰―²–Α–Κ, ―É―é―²–Ϋ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―¹―¨ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι, –Η ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ. –ê –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è. –ù–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Μ―è –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Α–Β–Φ, –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ―Ä―É―²―΄–Φ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Φ, –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Α―¹―³–Α–Μ―¨―²–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≤ –≤–Η–¥–Β ¬Ϊ–≥–Ψ―³―Ä–Α¬Μ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β –Ω―Ä–Α–±–Α–±―É―à–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―¹–Κ–Η. –ê –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α –≤―ä–Β―Ö–Α–Μ –≤ –Ϋ–Α―à–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Φ–Β–Ε–Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥―΄. –½–Α–¥―Ä–Β–Φ–Α–≤―à–Η–Ι ―à–Ψ―³―ë―Ä –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Β―²―¹―è –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–±–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è.
–ê–≤―²–Ψ–±―É―¹ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è –Η –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―¹―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –€–Α―Ä-–¥–Β–Μ―¨-–ü–Μ–Α―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η–Κ–Η.
–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –°–Ε–Ϋ–Ψ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α.
–ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α –Ϋ–Α ―é–≥.
–û―² –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Α –¥–Ψ 26 –≥―Ä. ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄. –ù–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―² ―¹ –ë–Ψ–Μ–Η–≤–Η–Β–Ι, –ü–Α―Ä–Α–≥–≤–Α–Β–Φ, –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β βÄ™ ―¹ –Θ―Ä―É–≥–≤–Α–Β–Φ –Η –ë―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η–Β–Ι. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―²―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ζ–Α ―¹–Β–±―è, –Κ–Α–Κ –Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Φ.
–ù–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Η –°–≥–Β –Ψ–Φ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –£ –Β―ë ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –û–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –½–Β–Φ–Μ―è, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Λ–Ψ–Μ–Κ–Μ–Β–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Β (–€–Α–Μ―¨–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β) –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―¹ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β–Ι.
–†–Β–Μ―¨–Β―³ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ: –Ψ―² –≥–Ψ―Ä –Η –≥–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α―²–Ψ –¥–Ψ –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Μ–Η–Ϋ –Η ―¹―É―Ö–Η―Ö ―¹―²–Β–Ω–Β–Ι.
–ù–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―² ―¹ –ë–Ψ–Μ–Η–≤–Η–Β–Ι –Η ―΅–Α―¹―²―¨ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ ―¹ –ß–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Β–±–Β―² –ê–Ϋ–¥. –ù–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ –ê–Ϋ–¥–Α–Φ βÄ™ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ –Φ–Β–Ε–¥―É –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –ß–Η–Μ–Η.
–™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Κ–Η: –ü–Α―Ä–Α–Ϋ–Α, –ü–Α―Ä–Α–Ϋ–≤–Α–Ι (–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ –ü–Α―Ä–Α–Ϋ―΄), –†–Η–Ψ-–¥–Β–Μ―¨-–ü–Μ–Α―²–Α, –†–Η–Ψ-–ö–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥–Ψ, –†–Η–Ψ-–Γ–Α–Μ–Α–¥–Ψ, –†–Η–Ψ-–ù–Β–≥―Ä–Ψ βÄ™ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄.
–ù–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ (–Ω–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β 1999 –≥.) –±–Ψ–Μ–Β–Β 36 –Φ–Μ–Ϋ. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –≠―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄: –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―Ü―΄ (85%, –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É - –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―Ü―΄, –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―Ü―΄, ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―΄, –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ―è–Κ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β); –Η–Ϋ–¥–Η–Ι―Ü―΄, –Α―Ä–Α–±―΄, –Φ–Β―²–Η―¹―΄. –·–Ζ―΄–Κ: –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι /–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι/, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι βÄ™ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è βÄ™ 90% –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Η. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Η, –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –Η –≤–Η―Ü–Β-–Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η.
–Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹ /12961000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ/. –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α. –™–Μ–Α–≤–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α βÄ™ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –ö–Α―Ä–Μ–Ψ―¹ ―¹–Α―É–Μ―¨ –€–Β–Ϋ–Β–Φ. –î–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Α―è –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü–Α βÄ™ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Α―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Β―¹–Ψ. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η /–Ϋ–Α 1998 –≥–Ψ–¥/: 69 –Μ–Β―² –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄, 76 - –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄. –Θ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η /–Ϋ–Α 1000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ/ - 20. –Θ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η /–Ϋ–Α 1000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ/ - 7.7.
–ö–Μ–Η–Φ–Α―² ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Η ―¹―É–±―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Μ–Β―²―¹―è –Ψ―² +17 –≥―Ä. –¥–Ψ +29 –≥―Ä., –Α –≤ –Η―é–Μ–Β –Ψ―² +6 –¥–Ψ+14.
–‰ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η –Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ–Η –≤ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ ―Ä–Α―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä –Ψ―² –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α–Μ―¨–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ ―ç–Κ–Ζ–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―²–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ –Β–Μ–Β–Ι, ―¹–Ψ―¹–Ϋ―΄ –Η –Κ–Β–¥―Ä–Α. –•–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―³–Α―É–Ϋ―΄ –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Α–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–Φ―΅–Α―²―΄―Ö –Η –Α―³―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²–Ψ–≤.
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄: –•–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ζ―ë―Ä–Α –≤ –Κ―É―Ä–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ë–Α―Ä–Η–Μ–Ψ―΅–Β –Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω–Α–¥ –‰–≥―É–Α–Ϋ―É.
–‰–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –€―É–Ζ–Β–Ι –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ –Η –€―É–Ζ–Β–Ι –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤ –≤ –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―è.
–ù–Β –±–Ψ―è―¹―¨ ―²–Α–≤―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, ―è –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅―É: –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄ –±–Ψ–≥–Α―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –‰ –Ω–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Α –ö–Α―Ä–Α–Φ–Ζ–Η–Ϋ–Α: –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö βÄ™ ―ç―²–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹ –Β–≥–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Α–Β–Φ –Η –Ϋ―Ä–Α–≤–Α–Φ–Η.
–û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –¥–Μ―è –Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –±―΄–Μ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –Ξ–Ψ―¹–Β –¥–Β –Γ–Α–Ϋ-–€–Α―Ä―²–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Γ–≤―è―²―΄–Φ ―¹–Ψ ―à–Ω–Α–≥–Ψ–Ι –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö¬Μ. –û –Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² –Η ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä―è–¥–Α –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β –≤―΄–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Β–≥–Ψ –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ–Ϋ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹ ―¹–Β–±―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ, ―É―¹―²―É–Ω–Η–≤ ―ç―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ―É –ë–Ψ–Μ–Η–≤–Α―Ä―É, ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ―É –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Α ―¹–Α–Φ –Ψ―²–Ψ―à―ë–Μ –Ψ―² –¥–Β–Μ.
–£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―ç―²–Α–Ω–Ψ–≤: –±–Ψ―Ä―¨–±―É –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Ι, –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ-―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ. –£ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Φ―É ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α¬Μ.
–û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Μ–Η–±–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Ξ―É–Α–Ϋ –î–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥–Ψ –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Α–Ε–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, ―¹–Ω―É―¹―²―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η, –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Β–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Α―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η ―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―΅–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Α. –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Ψ–≤. –ö –Φ–Β―¹―²―É –±―É–¥–Β―² –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹, –≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –≤ –Β―ë –±―É―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Β–≤―è–Ϋ–Ψ―¹―²―΄–Β, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Η –Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η, –Ψ―²―Ü―΄-–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Η –≤―¹―ë ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―²–Β―Ö –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –Η ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Η –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α, –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–¥―΄ –Η ―è―¹–Μ–Η, –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Α–≥–Β―Ä―è –Η –î–≤–Ψ―Ä―Ü―΄ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β... –€―΄ –Ε–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―à–Α―Ä–Α―Ö–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –•–≤–Α–Ϋ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ?¬Μ. –ù–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ¬Μ.
–£ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Ψ–≤ –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Α, –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Α –≠–≤–Α –î―É–Ψ―Ä―²–Β. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β. –‰ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―É–Ε–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. –î–Ψ―΅―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –≠–≤–Α ―à–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Α―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―¹―à–Β–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Β―ë –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β –±―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Β―ë –Ζ–Α ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η ―ç–Κ―¹―²―Ä–Α–≤–Α–≥–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―΅–Η –≤ –Η―Ö –Ζ–Α―â–Η―²―É.
–£―΄―¹―à–Β–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –ê―Ä–Φ–Η–Η, –≤―¹―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ. –ù–Ψ –≠–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²―É, –Γ–≤―΄―à–Β 300 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–≤–Ψ―Ä―Ü―É, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α―è –Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ–Η–≤–Α―è –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Η ―¹ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Α. –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ ―É―¹―²―É–Ω–Η―²―¨. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ –Η –≠–≤–Α –î―É–Α―Ä―²–Β –Ω–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨. –£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1946 –≥. –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≤―΄–±–Ψ―Ä―΄. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ. –û–Ϋ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―â–Η―²―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. –≠–≤–Α ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α –≤ 1952 –≥–Ψ–¥―É –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β 33 –Μ–Β―² –Ψ―² –Μ–Β–Ι–Κ–Β–Φ–Η–Η. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±―É –Ψ –Β―ë –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –£–Α―²–Η–Κ–Α–Ϋ –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ. –ü―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―²–Β―Ä―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Μ–Η–Κ. –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤―΄―à–Μ–Ψ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―è–Ζ–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ―Ä―Ä―É–Ω―Ü–Η–Η. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―¹–Μ―É―Ö, ―΅―²–Ψ –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Α–Φ, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―à―²―É―Ä–Φ –Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α, –≤―΄–Ϋ―É–¥–Η–≤ –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
–ù–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Η, –Ω–Η―Ä―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è 18-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤ 1973 –≥. ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤―΄–±–Ψ―Ä―΄, –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ–Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Β―é―â–Β–≥–Ψ –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É. –£–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―²―Ä–Η―É–Φ―³–Ψ–Φ –≤ –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹, –ü–Η―Ä–Ψ–Ϋ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―É–Φ–Β―Ä. –û–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω–Ψ―¹―² –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Β, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―¹–Β–≤–¥–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Φ –‰―¹–Α–±–Β–Μ–Η―²–Α. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ. –‰ –≤ 1976 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à―ë–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Ψ―². –£ XX –≤–Β–Κ–Β –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–≤: ―¹ 1930 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ1983 –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –Γ 1983 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ.
–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ―è―è –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α―é―â–Α―è ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Η–Φ–Φ–Η–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―É –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ /–ü–Α―Ä–Α–≥–≤–Α–Ι, –ü–Β―Ä―É, –ë–Ψ–Μ–Η–≤–Η―è/, ―²–Α–Κ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –Γ―²―Ä–Α–Ϋ –ê–Ζ–Η–Η, –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄ –Η –Γ–ù–™. –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –û–û–ù, –£–û–½, –€–£–Λ, –Λ–ê–û, –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤.
–ê ―¹–Α–Φ ―³–Α–Κ―², –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è 44 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―².
–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ (120-150 –Κ–Φ/―΅–Α―¹) –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è? –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Β –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ―Ä―¨–Β, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―¹ –½–Α–Ω–Α–¥–Α –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Β–±―²–Α –ê–Ϋ–¥ –¥–Ψ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η. –€–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α―è, –Κ–Α–Κ –±–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ, βÄ™ –Ω–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Α –±–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Α.
–‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ... –ï―¹–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –ë―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Κ–Η―Ö –Ψ–±–Β–Ζ―¨―è–Ϋ, ―²–Ψ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤–Η―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ ―¹–Κ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ –¥–Η–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―²–Β ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±–Β–Ζ―¨―è–Ϋ―΄, ―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ù–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―²–Α–Φ ―¹–Κ–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –¥–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α–≤–Β―¹–Ψ–≤, –Ω–Α―¹―²―É―Ö–Ψ–≤, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±–Α–Κ-–≤–Ψ–Μ–Κ–Ψ–¥–Α–≤–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Η―Ö ―à–Β―è―Ö. –Δ―É―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–¥–Α, –≥–¥–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É―²―¹―è –±–Ψ–Κ –Ψ –±–Ψ–Κ (–Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è–Φ –Η–Ζ –Κ/―³ ¬Ϊ–ö―É–±–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Η¬Μ) ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―². –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄ ―¹ ―²–Β–Μ―è―²–Α–Φ–Η –Η –Η―Ö –Ψ―²―Ü―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –±―Ä–Ψ–¥―è―² ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β, ―â–Η–Ω–Μ―é―² –Η –Ε―É―é―² ―²―Ä–Α–≤―É /–Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι –Α―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≤–Β –±―É–¥–Β―² –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä/. –£ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤ –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –¥–Ψ–Ι–Κ–Η. –Δ–Α–Φ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―Ä–Φ–Μ–Η–≤–Α―é―² –Η –¥–Ψ―è―². –•–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Η –Μ–Ψ―è–Μ―¨–Ϋ―΄ –Κ ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―² –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―Ö. –ù–Α 37 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ 45 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–≥–Α―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ–Ψ―²–Α. –ö–Α–Κ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–±–Α―É―²–Κ–Η ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ–Η¬Μ: ¬Ϊ–€―΄ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É –¥–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―É–¥–Ψ―è–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α, –Α –Ω–Ψ –Φ―è―¹―É –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Φ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É –±―΄–Κ–Α¬Μ. –ù–Ψ –Ϋ–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―²–Β―¹―¨! –£ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β.
–û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β–Φ ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Β –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―Ä–Α―΅ ―¹―É―Ö–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Α ¬Ϊ–€–Β―²–Α–Μ–Μ―É―Ä–≥ –ê–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤¬Μ –Γ–Α―à–Α –®–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ε–¥―΄ –±―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι –≤ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β: ¬Ϊ–Γ―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–≤–Β―Ä―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Β –ü–Α―Ä–Α–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―Ä–Α–Ζ–¥–≤–Η–≥–Α―è ―³–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Ϋ–Β–Φ –Ω–Α―¹―²–±–Η―â–Α –Η –Μ―É–≥–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η. –£–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β βÄ™ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ―è―² –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Α¬Μ.
–ü―Ä―è–Φ–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ–Α―è, –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Β–Μ–Α, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Α―¹–Α –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―²–Α–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –¥–Α –Η –±–Β–Ζ ―¹–Α–Φ–Η―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ, –±–Β–Ζ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤ ―¹ ―Ü–≤–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–Φ–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β ―²–Β―Ö, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –≤ –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Η –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―è–Ϋ―É¬Μ. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―é, –≤ –®–Β―Ä–±―É―Ä–≥. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β: –Φ―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤―¹―é –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η –≤―¹–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Μ–Η―¹―¨ ―¹―ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ–Η ―Ä–Α―¹―³–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –±―É―²―΄–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–ù–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―è–Ϋ―É¬Μ - –≤ ―ç―²–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α –Η ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É―à–Η.
–ö–Α–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–ê―²–Α–Κ–Η –£–Β–Κ–Α¬Μ /–Ψ –≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨/, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Ι, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –Α―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Β ―É–±–Β―Ä–Β–≥―à–Η―Ö ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ–Α –™―É―¹―²–Μ–Ψ–≤–Α¬Μ, –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-13¬Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β βÄ™ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Η–Φ–Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Α–Κ―²–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β¬Μ, –±–Μ–Α–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –¥–≤―É―Ö ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ψ―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥. –ü–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ: ¬Ϊ–ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–Ϋ–Ψ, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―²–≤–Β–Ι–Ϋ ¬Ϊ777¬Μ –Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥–Α―Ä–Φ–Ψ―à–Κ–Α. –Δ–Α–Κ –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ê―²–Α–Κ–Η –£–Β–Κ–Α¬Μ.
–û―¹–Ψ–±–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 12-―²–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Β –±–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Α–¥―Ä–Η–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²―É. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –≤―¹–Β –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£―¹–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α βÄ™ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Α –Η ―Ü–Β–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤. –ï–≥–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ βÄ™ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è ―É ―²–Α–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―¹, ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–Ϋ –≤ –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –€―É–Ζ–Β–Ι ¬ΪPrado¬Μ. –£ –Ϋ―ë–Φ ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¹―è –Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―²―¹―è –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Α―¹–Κ–Β―¹–Α, –†―É–±–Β–Ϋ―¹–Α, –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–ΑβÄΠ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –†–Ψ–¥―Ä–Η–≥–Β―¹–Α –¥–Β –Γ–Η–Μ―¨–≤–Α –£–Β–Μ–Α―¹–Κ–Β―¹–Α. –‰ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ ―É―²–Ψ–Ϋ―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Β–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Η–¥–Β―è –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―¹–Α–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―² –Η –Β–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ―à–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Β–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–¥–Α―²―¨ –Η ―É―²–Ψ–Φ–Μ―è―²―¨βÄΠ–Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ ―É –£―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ: ¬ΪβÄΠ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―é―²¬Μ, ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ι―¹, ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –≠―Ä–Μ–Β–Ϋ―É –ë–Β–Ι–Μ–Η―¹―É ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Κ –Ϋ–Β–Φ―É? –î–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–¥―É–Φ–Κ–Η. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –±–Β–Ζ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ: –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Η –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è, ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Β–≥–Ψ –‰–Φ―è –Η –î–Α―²–Α –Β–≥–Ψ –î–Ϋ―è –†–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ 7 –ù–Ψ―è–±―Ä―è βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Ψ―Ü–Η–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –‰ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ, –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤–Β―¹―¨ –€–Η―Ä –Ψ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Β –≤–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –‰–Φ–Β–Ϋ–Η –≠―Ä–Μ–Β–Ϋ, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –ë–Β–Ι–Μ–Η―¹―É –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² ―Ä–Ψ―è–Μ―¨ –≤ –Κ―É―¹―²–Α―Ö, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –ê―³―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α. –ü–Α–Φ―è―²―É―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ:¬ΜβÄΠ –î–Α –±―É–¥―¨ ―è ―Ö–Ψ―²―¨ –Ϋ–Β–≥―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤βÄΠ¬Μ. –‰–Φ―è –≠―Ä–Μ–Β–Ϋ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Α –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―²–Ψ–Ε–Β. –‰―²–Α–Κ, –≠―Ä–Μ–Β–Ϋ βÄ™ –≠―Ä–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –ö–Α–Κ –Ϋ–Β –Β–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Κ –Α―³―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―É, –Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Κ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―¹–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –ù–ΨβÄΠ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―Ä–Β–Ι―¹―É, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –≤ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ.
–ê–≤―²–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥ –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹ βÄ™ –€–Α―Ä-–¥–Β–Μ―¨-–ü–Μ–Α―²–Α –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β ―É –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄, –Α ―É –Η―Ö –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä―΄, –≥–¥–Β –Ϋ–Α–Φ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄ 300-500 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Β―ë ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –¦–Η–≤―à–Η―Ü–Α, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Κ―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Α –≠―Ä–Μ–Β–Ϋ–Α –ë–Β–Ι–Μ–Η―¹–Α, –•–Β–Ϋ―è ―¹ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι¬Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Φ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ. –‰ ¬Ϊ–Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Η¬Μ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η –Η –¥–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι.
–ö―¹―²–Α―²–Η, –Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä¬Μ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι /―¹―É–¥–Ψ–≤/, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Α; –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ; ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –¦–Η–≤―à–Η―Ü –Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –±―΄―²―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä–Α–Φ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―΄–Ϋ–Β.
–Γ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨. –î–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–≥―Ä-―à–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥ –¥–≤–Β ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ ―Ä―É―΅–Κ―É –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ―ë―¹–Η–Κ–Α―Ö. –î–Μ―è ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –ê―³―Ä–Η–Κ–Η ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ. –£ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ –≤–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ ―Ä―É―΅–Κ―É –Κ–Α–Φ–Ω–Α―¹–Ψ–Φ. ¬Ϊ–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α ¬Ϊ–ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ-–™–Α–Φ–±―É―Ä–≥¬Μ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Α–±–Μ–Ψ, –Α –Κ―É―Ä―¹ ―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Ψ―²―¹–Μ–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ω–Ψ –Κ–Α–Φ–Ω–Α―¹―É: ―²―É–¥–Α –Μ–Η –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Φ―΅–Η―²―¹―è ―ç–Κ―¹–Ω―Ä–Β―¹―¹ ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é 420 –Κ–Φ/―΅–Α―¹.
–£–Ψ―² –Ω–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹―ɬΜ, –≤―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ ―Ä–Β–Φ–Β―à–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ä―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ βÄ™ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü―΄ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–¥–Β–Μ–Β –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä―É―è –±―É―Ö―²―É –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤ –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ―É―é –Ω―É―Ä–≥―É –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Μ―¨–¥―É –Η–Ζ –Γ–Β–Μ―¨–¥–Β–≤–Ψ–Ι –≤ –†―΄–±–Α―΅–Η–Ι. –½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä―΄–Ε–Β–Ι ―à–Β–≤–Β–Μ―é―Ä–Ψ–Ι –ï–≥–Ψ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –‰–Φ―ë–Ϋ ―è, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é.
–≠―²–Ψ―² –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² ―²―É–¥–Α –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ ―É–Ε–Β –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η.
–û–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²―è―Ö –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω–Μ–Η―²–Κ–Η ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Α, –Φ―΄ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤―¹―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ζ–Α―¹–Ϋ―É―²―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Μ–Η–≤―΄–Ι –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―é–Φ–Ψ―Ä–Β―¹–Κ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –£–Η–Ϋ–Ψ–Κ―É―Ä–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―¹ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ε–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –≤ –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―É–Ω–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α ¬Ϊ–ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ βÄ™ –ü–Α―Ä–Η–Ε¬Μ: –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Α―Ä–Η–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α, –Ϋ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è –Β–Φ―É –Ϋ–Α –Μ–Η―¹―²–Κ–Β –±―É–Φ–Α–≥–Η –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –≤–¥―Ä―É–≥, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η. –Δ–Α–Κ –Η –Φ―΄ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α–Η―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ: –Ψ―²–Κ―É–¥–Α, –Φ–Ψ–Μ, –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄ ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε¬Μ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α―Ö –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Ι–Κ–Α. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Κ–Η –≤ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α(/–Ω–Ψ―¹–Κ―É–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –±―É―Ä–Ε―É–Η–Ϋ―΄)!
–ü–Ψ―É―²―Ä―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –≤ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―ë–Φ–Β –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Ω–Μ―è–Ε –Η ―¹–Α–Φ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ, ―¹―²―Ä–Α―Ö–Η ―É–Μ–Β―²―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Α–¥–Ψ–Κ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è. –‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―é–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η¬Μ. –ê –Β―â―ë –Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Κ–Α―Ö¬Μ: –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η –¥–≤–Η–Ε–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α–Μ–Β–≤–Ψ, –Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –¦―É–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Α –Μ–Β–≤–Ψ–Ι. –‰ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―¨―²–Β –Ϋ–Α–Φ, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―¹, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―É–≥–Ϋ–Β―²–Α–Μ–Ψ: –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Η –≤―¹―ë –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β, –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄–ΦβÄΠ –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η―Ü–Α–Φ–Η βÄ™ –Α―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η, –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α–Φ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―¹―è –≤ –°–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²―΄. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α―²―¨―¹―è?! –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β, –Ψ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –Ψ–Ϋ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Β–≥–Ψ. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ ―èβÄΠ ―¹ –±–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Β–ΙβÄΠ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–Α–Φ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è ―É―΅–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ–Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ¬Μ –Η ¬Ϊ–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é ―²―Ä–Α―²–Η–Μ–Η, –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Ι –€–Α–≥βÄΠ¬Μ
–€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –±–Β–≥–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α―Ö. –ö–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ―é―é ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Β―¹―¹–Η―é –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ―Ä–Α–Β–≤―΄–Β, –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β, ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β, –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–ΒβÄΠ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Ψ–¥―΄―Ä–Η –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–Κ, –Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Μ–Ψ–¥―΄―Ä–Η –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Ψ–Κ¬Μ.
(–ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η)
|
|
14. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ
| |
 –€–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –¥―è–¥–Β –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Β –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ. –ï–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Ε–Η–≤–Α―è –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–€–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –¥―è–¥–Β –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Β –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ. –ï–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Ε–Η–≤–Α―è –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–î–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄ™ –¥–≤–Α, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―²―Ä–Η ―à―²―Ä–Η―Ö–Α –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η.
–®―²―Ä–Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι. –ë―΄–Μ –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –‰.–û. –î–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –€–Α–Κ–Α―Ä―²―É―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²―É–Μ―è―Ü–Η―é –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Β "–€–Η―¹―¹―É―Ä–Η", –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ.
–£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ–Β―Ü –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ¬Ϊ–ö-3¬Μ βÄî ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ¬Μ βÄî –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤―à–Α―è –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Α –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―é―¹–Β. –Θ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –Β―¹―²―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ–Α―è –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ¬Ϊ―ç–Κ―¹–Κ–Μ―é–Ζ–Η–≤–Ϋ–Α―è¬Μ –Α―É–¥–Η–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Ψ–Ϋ: ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ ―É ―²–Β–±―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ.
–Δ―Ä–Β―²–Η–Ι. –ï―â―ë –≤ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η, –±―É–¥―É―΅–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –Η–≥―Ä–Α–Μ –≤ –¥–Ε–Α–Ζ–Β –Θ―²―ë―¹–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η –Ψ―² ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ, –Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Μ–Ψ–Ω―΄―Ö–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ψ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ –ù–Α―à–Β–≥–Ψ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ. –£ –¥–Ψ–Φ–Β ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä –Κ–Μ–Α–≤–Η―à–Ϋ―΄―Ö –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤―΄―Ö –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β: –≥–Η―Ä–Η, –≥–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Η, ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä―΄.
–£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι βÄ€–¦-18βÄù, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―à―²–Α–±–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ε–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ―è–Φ. –€–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨: ―É–Ε–Α―¹ ―¹–Κ―Ä–Β–Ε–Β―²–Α –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω–Α –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ –Η –≤―¹―é –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–≤–Β–Ϋ―è―â―É―é ―²–Η―à–Η–Ϋ―É –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β―² –Μ–Η―à―¨ –≥―Ä–Ψ–Φ ―²–Η–Κ–Α–Ϋ―¨―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Α―ÖβÄΠ –¥–Α ―΅―ë―²–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ―¹―²: –≥–¥–Β –Η –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É ―ç―²–Ψ―² ―¹–Κ―Ä–Β–Ε–Β―². –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ, –Β–≥–Ψ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Α ―Ä―É–Μ–Η –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³―΄.
–†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–ü. –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Μ¬Μ –≤ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α, –Κ–Α–Κ –Β–Φ―É, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α III ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Β―â―ë –¥–Ψ –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β―Ü–Β–¥–Β–Ϋ―²: –Η–Ζ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –≤ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä―΄. –ö–Α–Κ –≤–Η–¥–Η–Φ, –Η –≤ ―²–Ψ –£―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹―à–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨. –Ξ–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β.
–Θ–Ε–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―è –≤―¹―ë ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ¬Ϊ–¦-18¬Μ, –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―² –¥–Β―¹–Α–Ϋ―² –≤ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É –û―²–Ψ-–€–Α―Ä–Η, –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤, –≤–Ζ―è–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Ψ―²―΄ ¬Ϊ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―¹–Ψ–≤―Ü–Β–≤¬Μ (―²–Α–Κ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α) ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –Η –¥–≤―É–Φ―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω―É―à–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Ω―Ä–Η–¥–Α―΅―É, ―΅―²–Ψ ―É―²―è–Ε–Β–Μ–Η–Μ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–≤ –Β―ë –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É, –¥–Α–Ε–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É. –ù–Β –Ψ―à–Η–±―É―¹―¨, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Η –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι.
–ü―É―¹―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η―², –Β―¹–Μ–Η ―΅―²–Ψ, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Κ–Ψ–Ω―Ü–Ψ–≤ βÄ™ ¬Ϊ–Ϋ–Α―à ―é–Ϋ–≥–Α¬Μ, –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –≤ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Β ―É–±–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄. –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –ê―ç―Ä–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Α βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι –≤―¹―ë –Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Η –Β–≥–Ψ –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –≤–Μ–Α–¥–Β―é―â–Η–Ι –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Β.
–£ –Β–≥–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β –Β―¹―²―¨ –Η ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –£.–ü.–Π–≤–Β―²–Κ–Ψ. –£ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Β-–Ϋ–Α-–ê–Φ―É―Ä–Β –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–©-418¬Μ –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Α –¥–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―è βÄ™ –≤–Ζ―Ä―΄–≤ ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É. –Γ–Α–Φ –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ω–Α―¹―¹―è ―΅―É–¥–Ψ–Φ: –≤ ―²―É –Ε–Α―Ä–Κ―É―é –Η―é–Ϋ―¨―¹–Κ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –≤ –ê–Φ―É―Ä.
–£ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ―² –≤–Η–¥–Β –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹ –Ψ―²―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ ―Ä―É–±–Κ―É –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Η–±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –™–Α–≤–Α–Ϋ―¨. –Γ―²–Ψ―è–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β –≤ –±―É―Ö―²–Β ¬Ϊ–ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α―è¬Μ βÄî –Φ–Β―¹―²–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è 90-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –‰ –Φ―΄, –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ―΄-–Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η, –Μ–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ι –≤ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²―¨–Φ–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Β―΅–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö.
–ö–Α–Κ ―è ―²–Α–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è? –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –ü–¦ ¬Ϊ–€-46¬Μ. –‰ ―è ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α ―à―ë–Μ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Α–Φ –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–ê–±–±―Ä–Β–≤–Η–Α―²―É―Ä–Α ¬Ϊ–¦-18¬Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–¦-18¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ). –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β (–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ). –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η-―²―Ä–Β―²―¨–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η―Ü―΄ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü –±―΄–Μ–Α –Η –Φ–Ψ―è –±―É–¥―É―â–Α―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α βÄî –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –†―É–±–Α–Ϋ.
–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Β―â―ë –Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ. –£―¹–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ –≤ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α―Ö. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Α ―¹ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ. –ù–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ, –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –≤ ―Ä―É–Κ–Β ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Α, –≤–Ϋ–Η–Ζ―É –±―É―Ö―²–Α –Η –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Ϋ–Β―ë –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α.
–Ξ–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Β―â―ë –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨: –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Η–Φ–Β–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –€–Ψ–≥ –≤ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –≠―²–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β: –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –≤–Η–Ϋ―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―² ―Ä―΄–±–Α―Ü–Κ–Η―Ö ―¹–Β―²–Β–Ι.
–î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² –¥―è–¥―è –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –±―΄–Μ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α !!!
|
|
15. –û –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Α―Ö
| |
–Γ –≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ –ê―¹–Η–Κ–Ψ–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Ψ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α ―¹–≤–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β "–ö-14".
–ï–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –Α–Ω–Ω–Β–Ϋ–¥–Η―Ü–Η―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Ϋ–Ψ –Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ë―΄–Μ–Α –±―΄ –Μ–Η―à―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Κ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –¥–Α –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄–Ι –Α―¹―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―², –Ω―É―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ–Β, –Μ–Η―à―¨ –±―΄ –Ϋ–Β –±–Ψ―è–Μ―¹―è –Κ―Ä–Ψ–≤–Η.
–ù–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ―΄–Φ ―΅–Α―¹–Ψ–Φ –¥–Μ―è –ê―¹–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ, –Ψ–±–Μ–Α―΅–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―Ö–Α–Μ–Α―², –Ζ–Α―à–Η–≤–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Μ–Η–≤–Ψ–Φ―É –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ―É, –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Α–≤―à–Β–Φ―É –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Μ―é―΅–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –≠―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η–Φ–Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Α –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι "–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ–Μ―é―¹", –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α–Φ, ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β –Ψ–≤–Ψ―â–Η, ―³―Ä―É–Κ―²―΄ –Η –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨. –£ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨―é –Β―â―ë ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ. (–≠―²–Ψ ―²–Α–Κ, –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤―΄–±―Ä–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Β–Ω―¹–Η, –Β―¹–Μ–Η, –≤–¥―Ä―É–≥ –±―Ä–Ψ―à―é―Ä–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–¥―ë―² –≤ –Η―Ö ―Ä―É–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―É―²–Α–Μ–Η ―ç―²–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è).
–½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ö-14¬Μ –ê.–£. –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è: –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ψ―² –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α, –Η –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è, –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ. –£ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–Δ―Ä–Β―²―¨–Β –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –≤―Ä–Α―΅–Α ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Α–Κ―²―ë―Ä–Ψ–Φ –Η ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Ψ–Φ –™―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –†―è–±–Ψ–≤, –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ - –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤.
–Γ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ê―¹–Η–Κ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η–Β –¥–Μ―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –ö―É―Ä―¹―΄ –Ω―Ä–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –Γ.–€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α –¥–Μ―è –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Β–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Β –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―É–±–Β―Ä–Β–≥–Μ–Η –ê―¹–Η–Κ–Α –Η –Ψ―² –Ψ―²―¹–Η–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Β. –ù–Β―², –Ϋ–Β –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β ―É–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Ζ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Η―¹―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ϋ―¹, –Ω―Ä–Η–≤–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ –≤ –Ψ–±―â–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–Δ
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –≤―Ä–Α―΅–Β, ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –ê―¹–Η–Κ–Α –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α βÄî –°―Ä–Η–Η –®―É–Μ―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α―Ö (–Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ ―É –≤―¹–Β―Ö, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ―¹ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η), ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ψ –Κ―É―Ä―¨―ë–Ζ–Α―Ö. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β. –ß–Α―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Η –°―Ä–Α. –ü–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―ë―¹―¹―è ―¹–Μ―É―Ö: ¬Ϊ–Ξ―Ä―É―â―ë–≤–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Η¬Μ. –½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Α―Ö–Μ―é―¹―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨, –±–Β―Ä―ë―² –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Ϋ–Α―¹–Μ―É―à–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ¬Ϊ–≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤¬Μ –Ζ–Α ¬Ϊ–≥―É–Ϋ–¥―É–Ζ–Β―Ä¬Μ, –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è―è –Β–≥–Ψ –≤ –Α–Ϋ―²–Η–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ë–Μ–Α–≥–Ψ –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É –≤―¹―ë ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨.
–î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –ü―Ä–Η–¥―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –°―Ä–Α, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –≤–Α–Ϋ–Ϋ―É –Η –Μ–Β–≥ –≤ –Ϋ–Β―ë. –ü–Ψ–≥–Α―¹ ―¹–≤–Β―², ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –≤–Β―â–Β–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ (–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η). –‰ –°―Ä–Α, ―É―²–Ψ–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Β―² –≤ –≤–Α–Ϋ–Ϋ–Β. –ü―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Β―²―¹―è βÄî ―²–Β–Φ–Ϋ–ΨβÄΠ ¬Ϊ–€–Α―Ü-–Φ–Α―Ü¬Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι βÄî –≤–Ψ–¥–Α! –‰ –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Ψ―Ä―ë―² ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Ϋ―¨―è, –Ω―É–≥–Α―è –¥–Ψ–Φ–Ψ―΅–Α–¥―Ü–Β–≤ –Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι: ¬Ϊ–Δ–Ψ–Ϋ–Β–Φ!!!¬Μ
–€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β―â―ë ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Ι ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ. –î–Α, –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Κ–Α–Κ –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-―é–Φ–Ψ―Ä–Η―¹―² ―Ä–Α–¥―É–Β―² –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≤–Β―¹―ë–Μ―΄–Φ–Η –±–Α–Ι–Κ–Α–Φ–Η. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤ ―²―è–≥–Ψ–Φ–Ψ―²–Η–Ϋ―É –¥–Ψ–Μ–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–≥–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β. –ï–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―É–Μ―΄–±–Κ―É –Η –Η–Φ–Β–Μ–Η ―è–≤–Ϋ―΄–Ι ―²–Β―Ä–Α–Ω–Β–≤―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―². –î–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Β―΅―²–Ψ–Ι: ¬Ϊ–£–Ψ―², –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Ω–Ψ–Ι–¥―É –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é –Ζ–Β–Φ―¹–Κ–Η–Φ –≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–≥–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Α―²–Β–Ι ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―é, ―΅―É―Ö–Α―è ―¹–≤–Ψ―ë –Ω―É–Ζ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥―΄―Ä―É –≤ ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Β, –Κ―Ä–Η―΅―É: ¬Ϊ–€–Α―²―Ä―ë–Ϋ–Α, –Φ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Α!¬Μ
–ê –≤–Ψ―² ―É –£–Α–¥–Η–Φ–Α –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ë–ß-V βÄî –±―΄–Μ–Α –¥―Ä―É–≥–Α―è –Φ–Β―΅―²–Α: –Ψ–¥–Β―²―¨ –Κ–Η―²–Β–Μ―¨ (–Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ω―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–±–Β ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β) –Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω–Η―Ä―¹―É. –½–Α–Φ–Β―²―¨―²–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –Ϋ–Β –Ω–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –î–Β―Ä–Η–±–Α―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –Α –Ω–Ψ –Ω–Η―Ä―¹―É.
–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –±―΄―²–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―΅–Α―²―¨ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
|
|
16. –û ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ
| |
–û ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Β―²―¨ ―Ü–Β–Μ―É―é –û–¥―É. –ù–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ –Ϋ–Η―Ö ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η. –£–Ψ―² –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è: ¬Ϊ–¦―é–±–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –≤―Ä–Α―¹―²–Α–Β―² –≤ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―² –Β―ë –Ω―É–Μ―¨―¹–Α, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –Θ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β―² ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄ™ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ –≤ –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Η–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Β, –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Β–≥–ΨβÄΠ¬Μ. –‰–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ, ―É –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ü–Η–Κ―É–Μ―è –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β-―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Β ¬Ϊ–€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥¬Μ: ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ, ―ç―²–Ψ ―à–Κ―É―Ä–Α, ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅―¨. –ï―¹–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä βÄ™ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Η –≤–Μ–Α–¥―΄–Κ–Α –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η: –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―²–Α–Η―²―¹―è: ¬Ϊ–Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²―É―Ä–Α –Κ―Ä―É–≥–Α¬Μ –Β–≥–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä βÄ™ ―ç―²–Ψ ―Ü–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―ë―¹ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β―² ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄, –Α –Β―¹―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –≠―²–Ψ –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι.
–ö ―¹–Β–±–Β, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Φ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―¹―²–Α–Ε ―¹–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε-–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à―É.
 –£ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α.
¬Ϊ –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß-V, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β βÄ™ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨¬ΜβÄΠ
–£ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α.
¬Ϊ –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß-V, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β βÄ™ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨¬ΜβÄΠ
–ë―΄―²―É―é―â–Β–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ - ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ βÄ™ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―². –ï―¹–Μ–Η –≤ –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, ―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ βÄ™ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―², ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ!!! –£ –Β–≥–Ψ –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ, ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –±―É–¥―¨―²–Β –¥–Ψ–±―Ä―΄, –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β¬Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ. –‰ –≤–Ψ―², –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨. –Θ―¹―²–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è ―¹ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É. –ü―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É –Ω–Ψ–¥ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –±–Β―¹―à―É–Φ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –¥―Ä–Β–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η―à―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β ―²–Η―Ö–Ψ –≤ ―΅–Α―¹ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Φ–Α―è―΅–Η―² –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―΄ –ü–Α―Ö–Φ―É―²–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―΅–Β―Ä–Ω–Α―é―â–Β–Ι –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –±―É–¥―É―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ―É–Ε–Β–Φ-–Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –î–Ψ–±―Ä–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ–≤―΄–Φ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –©–Β–¥―Ä―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η–≤ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η –Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Β―Ö–Ψ–≤―΄–Β –Κ―É―Ä―²–Κ–Η βÄ™ ¬Ϊ–Κ–Α–Ϋ–Α–¥–Κ–Η¬Μ. –‰ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―²–Κ–Β –¥–Ψ –Ω―è―² –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Α –Η –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ψ–Ι ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Η–Ζ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄, –Η –±–Β–Ζ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–Η―Ä–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―à–≤–Α―Ä―²―É–Β―²―¹―è –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β?! –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ–Μ–Η–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―Ä–Α–¥–Ψ–Ι: βÄ€–≠–Ι ―²―΄, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Α―Ä–Φ–Β–Β―Ü, ―²–Α–Κ ―²–Β–±―è –Η ―²–Α–ΚβÄΠ, (–Ϋ–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Β–Β –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β!!!) –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄–Ι!βÄù –ë–Β–¥–Ϋ–Α―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―ç―²―É ―²–Ψ–Μ―¹―²―É―é –Κ–Α–Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―É―é –≤–Β―Ä―ë–≤–Κ―É –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β βÄΠ –±–Μ–Α–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―¹–Ω–Β–Μ–Α –Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Φ–Μ―é―â–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α.
–Θ–Ε–Β –≤ –î–Ψ–Φ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―ç–Μ–Β–≥–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –≤―ë–Μ ―¹ –≥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η ―¹–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –±–Β―¹–Β–¥―É, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ ―¹–≥–Μ–Α–¥–Η―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α ―΅―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―è―Ö―²―΄ –Κ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–≥ –Λ. –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥―É―â–Η–Ι –±–Μ–Η―¹―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Β―Ü, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β –≤ –Β―ë –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Η–Ζ–Φ–Α¬Μ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ: ¬Ϊ–· –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―é―¹―¨ –≤ –£–Α―à–Β–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ¬Μ.
–ù–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β―¹―ë―²―¹―è ―¹ ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤βÄΠ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Β, –±–Μ–Β–¥–Ϋ–Β―é―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―è―²―΄–Β. –£―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Α―è –¥–Α–Φ–Α, ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Μ–Ψ–Μ–Ψ–≥, –≤–Β―â–Α―è, ―΅―²–Ψ –Β―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ, –Ω–Β―΅–Α―²–Α–Β―²―¹―è –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Μ–Μ–Α–Ε–Α―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤ (–Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –£―΄ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η?!) - –Κ–Ϋ–Η–≥–Α-―¹–≤–Ψ–¥ –Φ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤, –Φ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Η―Ö ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –Κ–Α–Κ, –≥–¥–Β –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ù–Β –¥–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ψ―²–Ω–Β―²―΄–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–≤–Β―¹―²–Η ―ç―²–Ψ ¬Ϊknova hav¬Μ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –£–€–Λ. –î–Α–Μ–Β–Κ–Η –Ψ―² ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ι –Η –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Η, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –î―΄–≥–Α–Μ–Ψ-―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι, –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ë–Β―Ü (–£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α–Μ―΄ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Β–≥–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η) –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β–Φ–Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –•–Α–Ϋ –Γ–≤–Β―Ä–±–Η–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―è –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η―Ö –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –±―É–¥―É―â–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Α–Κ –¥–≤–Α –Β–≤―Ä–Β―è ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ü–Ψ–¥ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―à―É―²–Κ–Ψ–Ι –•–Α–Ϋ–Α ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η.
–ö–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è –ü–¦ ¬Ϊ–ö-19¬Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –î–≤―É–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η, ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Γ-267¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ-270¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ –Γ–≤–Β―Ä–±–Η–Μ–Ψ–≤, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –±–Β–¥―¹―²–≤―É―é―â―É―é –ü–¦, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω―Ä–Η―ë–Φ―É –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Μ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –Η –Ω–Μ―΄–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―²–Β –¥–Β–Μ―¨―³–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ¬Ϊ–¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι¬Μ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –±―΄ ―ç―²―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α. –Γ–≤–Β―Ä–±–Η–Μ–Ψ–≤ ―²–Α–Κ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-270¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-19¬Μ. –ö –≥–Ψ―Ä–Μ―É –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Ψ–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―à―¨, –≤–Β―¹―¨ ―²―Ä–Α–≥–Η–Ζ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Μ―ë–Ζ―΄ –Ϋ–Α–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –ë–ß-V –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Γ―²–Α―¹ –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤, –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄, –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–Γ-270¬Μ, ―¹―²–Α–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –±―É–¥–Β―² –Β―â―ë –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η.
–½–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―΄―¹―è―΅ –Φ–Η–Μ―¨, ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –†―è–±–Ψ–≤, –Α–≤―²–Ψ―Ä ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η –Ϋ―ë–Φ. –î–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―É―Ä–Β ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Β –Ω–Α–¥–Α–Μ–Ψ –Η –≤ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ―É V –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤–Ψ–¥–Α. –ß―²–Ψ –Ζ–Α –≤–Ψ–¥–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, –¥–Α –Η ―¹–≤–Β–Ε–Α –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-19¬Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Α―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ–Β –Η–Φ―è ¬Ϊ–Ξ–Η―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Α¬Μ. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ε–Α ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Α ―²–Α–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α - –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹―΄. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Η―Ö βÄ™ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤ 1986 –≥–Ψ–¥―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Γ–Β―Ä―ë–Ε–Α –ü–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≥–Η–±–Ϋ―É―â–Β–Ι –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-219¬Μ ―Ü–Β–Ϋ–Ψ―é ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η–Μ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―é –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è –¥–Μ―è –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Γ–®–ê, ―²–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü―΄ –Η –Κ–Η–Ω–Ψ–≤―Ü―΄ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 1-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ë–ß-V –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –£–Α―¹–Β–Ι –™–Ψ―Ä–±–Α―Ä―Ü–Ψ–Φ, –±―É–¥―É―â–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥–Α –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α ―É–±–Β―Ä–Β–≥–Μ–Η –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Η –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Γ–®–ê, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –¦–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η –¥–≤–Β –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –¥–Α –Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è(!). –Ξ–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –°―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –ö–Α–Φ―΄―à–Α–Ϋ βÄ™ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –û.–ê., –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―¹ –≤–Η–Ζ–Η―²–Ψ–Φ –≤ –ù–Ψ―Ä–≤–Β–≥–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ-―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –ù–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ω–Ψ ―¹–Κ–Α–Ι–Ω―É βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄–≥–Μ―è-–¥–Η―². –û―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–ΚβÄΠ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α¬Μ.
14 –Φ–Α―è 2004 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ε–¥―ë–Φ ¬Ϊ–≤―¹–Β –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Α–≥–Η –Κ –Ϋ–Α–Φ¬Μ –≤ –Ϋ–Α―à –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –™–Ψ―Ä–Ψ–¥-–™–Β―Ä–Ψ–Ι –û–¥–Β―¹―¹―É.
–ü–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–≤ βÄ™ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ-–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α–Φ–Η.
|
|
17. –‰ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Η―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ. –ß–ê–Γ–Δ–§ 2
| |
–†–Α–Ζ ―É–Ε –Ω–Ψ―à–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―èβÄΠ ―²–Β–Φ–Α, ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε―É –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Κ–Μ―é―΅–Β.
–ê―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤ –¥–Ψ–Κ–Β. –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α, –±―É―Ö―²–Α –Γ–Β–Μ―¨–¥–Β–≤–Α―è. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―²–Α–Φ–Ψ―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤–Α –°―Ä―¨–Β–≤–Η―΅–Α –ö–Α–Φ―΄―à–Α–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Μ–Β―², ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η –ß–Α–Ε–Φ―΄ (–Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è) ―è ―¹–Φ–Β–Ϋ―é –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 245 –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–‰―²–Α–Κ, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –¥–Ψ–Κ–Β. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤–Α. –û–Ϋ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –±―É―Ö―²―΄ –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η ―¹ –î–Ϋ―ë–Φ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –±―É―Ö―²―΄ –Γ–Β–Μ―¨–¥–Β–≤–Ψ–Ι –Κ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ϋ–Α –Ψ―²―à–Η–±–Β.
–ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ –£―¹–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–Β –Η ―Ä–Α―¹–Κ–Α―²–Η―¹―²–Ψ–Β ¬Ϊ–Θ―Ä-―Ä-―Ä–Α-–Α-–Α!¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤, –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η–¥―ë―² –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ ―²―Ä–Α–Ω―É –Κ–Α―²–Β―Ä–ΑβÄΠ –ö–Α–Κ ―èβÄΠ ―²―É―² –Κ–Α–Κ ―²―É―² –Κ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, ―¹–Μ–Α–±–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Ω―Ä–Ψ―à―É –£–Α―¹ –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –Κ–Α―é―²―É –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―É βÄ™ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Κ–Α¬ΜβÄΠ
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Η–Ϋ–Κ–Η, –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Φ–Α―Ä–Ψ–≤: ¬Ϊ–ù―É, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–ΨβÄΠ¬Μ. –‰ ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ¬Μ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –¥–Ψ –Ψ–±–Β–¥–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Η ―É–Ε–Η–Ϋ, ―É–Ε–Β –≤ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β: ―¹―²–Α―Ä–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―΅ –ö–Α–Φ―΄―à–Α–Ϋ –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –°―Ä―¨–Β–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Α–Ϋ―Ä–Η–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 10 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ê–ü–¦, ―΅―¨―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ ―ç―²―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –±―É―Ö―²―΄ –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Β –≥–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ―ä–Β―Ö–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-V –û–Μ–Β–≥ –ï―¹–Η–Ϋ: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –£–Α―¹ –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è¬Μ. –î–Α, –≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä―è–Φ―΄―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ê, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–Ε–Β.
–ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤ –ß–Α–Ε–Φ–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Η –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β. –£–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –≤ –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Α―Ä―² –Α–Κ―²–Η–≤. –‰ ―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―² ―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β, –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Β, ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –£–Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Φ―É (–≥–¥–Β –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α, –Α –≥–¥–Β ―è) –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É βÄ™ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―É, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―Ä―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β –û―Ä–¥–Β–Ϋ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –¥–Ψ–Κ–Β, ―¹–Μ–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ –≤ –û–¥–Β―¹―¹―ɬΜ. –Γ―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Λ–Μ–Ψ―²–Α –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―΄―¹–Ψ–Β–≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ ―é–Φ–Ψ―Ä–Α(?) : ¬Ϊ–ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ–Β¬Μ –Ω–Ψ―à―É–Κ–Α–Β―² ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ―΄ –≤―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–Κ–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²¬Μ. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ –Μ―é–Κ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –≤―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–Κ–Ψ–≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ –¥–Μ―è ―¹–±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―à–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η –Μ―é–Κ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Β –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ―΄, –≤―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –≤ –¥―Ä―É–≥―É―é –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ―¹–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–¥―Ä–Α–Η―²―¨ –Μ―é–Κ, –Α –Ω―Ä–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ –Μ―é–Κ ¬Ϊ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α.
–‰ –≤–Ψ―² ―è –≤ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –û–¥–Β―¹―¹–Β. –î–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Β –Η –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ –î–Ϋ―è –£–€–Λ. –ü–Ψ―¹―΄–Μ–Α―é ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ù.–ë.–ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤―É: ¬Ϊ–ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é ―¹ –£―¹–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –î–Ϋ―ë–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Η –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤, –Α ―¹–Β–±–Β –Ε–Β–Μ–Α―é –Ω―Ä–Ψ–¥–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é¬Μ. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é –Μ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α¬Μ, ―².–Β. –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Μ―ë–Ϋ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Η–Β –±―΄–Μ–Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ψ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η!!!
–î–Α, ―è –Μ―é–±–Μ―é ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É. –ê –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ –≤ –Κ–Α―é―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β. –‰ –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ-―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β!!!
–ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ (–Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―¹) ―¹ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Φ–Ϋ–Β –¥–Ϋ―èβÄΠ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-42¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Μ–Α–≤―΄ –½–Α–Φ–Ψ―Ä–Β–≤–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ―ë–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Δ–û–Λ. –£–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η. –ê ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Α –Ω–Ψ–¥–Μ―ë–¥–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α, ¬Ϊ–Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é¬Μ, –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Α, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. ¬Ϊ–€–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ (¬Ϊ–Β―¹―²―¨ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β!!!¬Μ) –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –Δ–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―Ö―Ä–Η–Ω–Β―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –£―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–ê –¥–Α―²―¨ ―²–Β–±–Β –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ ―²–Β–±―è –≤ –±–Ψ–ΙβÄΠ¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―è ¬Ϊ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ.
–Γ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Θ–Κ–Α–Ζ–Α –Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-42¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ß–Α―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Κ–Α―é―²―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β: ¬Ϊ–ù―ÉβÄΠ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―É–≥–Ψ―â–Α–Ι!¬Μ. –Γ–Μ–Α–≤–Α, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―à–Κ–Α–≤―à–Η―¹―¨: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤, ―è –≤–Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ (–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι), –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è¬Μ βÄ™ –≤ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ¬Μ, ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä. –· –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α―é―²–Β –½–Α–Φ–Ψ―Ä–Β–≤–Α –Η ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ―¹―²–Η. –‰βÄΠ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄.
–£ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―Ü–Β–Ω–Μ―è–Β―² –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –Θ–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–≤ –Ψ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ê.–ù. –ö–Ψ–Φ–Α―Ä–Ψ–≤–Β, –Ϋ―É –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―è―Ä–Κ–Ψ–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –™–Β―Ä–Ψ–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Μ–Η –Β―â―ë ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ –Ϋ―ë–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ (?!).
–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –≤ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –û―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –ê.–ù.–ö–Ψ–Φ–Α―Ä–Ψ–≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Β –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1945 –≥–Ψ–¥–Α, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–≤ –≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–≤–Α―²–Κ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², –Ζ–Α―â–Η―²–Η–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –½–Α ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ III ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α βÄ™ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Β –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤–Α. –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ―É –Κ―É―Ä―¹–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Η –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―è―¹―¨ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β, –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α―Ö ―²–Α–Φ–Ψ―à–Ϋ–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ü―Ä–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ ―¹–Β–±–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Β, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –û ―΅―ë–Φ –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Β βÄ™ –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―É–±―΄–Μ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–±―è –±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –Φ―É―¹–Ψ―Ä –Η –Ω―É―¹―²―΄–Β –±―É―²―΄–Μ–Κ–Η. –ù–Α ―΅―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ö –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ―è–Φ –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Β―Ä―΄, –Α ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ω―É―¹―²―΄―Ö –±―É―²―΄–Μ–Ψ–Κ, ―²–Ψ ―è ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É―é –Η―Ö ―¹–¥–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Α –≤―΄―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―² –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ¬Μ. –ü–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Α –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –™―Ä–Η―à–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α. –‰ –Ζ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Β–≥–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ―²–Α―²―¹―²–≤–Ψ –ê.–ù.–ö–Ψ–Φ–Α―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –ü–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Κ –™―Ä–Η―à–Α–Ϋ–Ψ–≤―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≤–Β―Ä. –ü–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅―É –≤―¹―ë –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ βÄ™ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Β―â―ë –Η –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ù–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –£.–€.–™―Ä–Η―à–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β–Φ, –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–Κ, –±―É―²―΄–Μ–Κ–Η ―¹–¥–Α―ë―à―¨?!¬Μ.
–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅―É, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η―¹―²―É, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ―É –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η–Ζ–Φ–Α, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ.
–£–Ψ―² ―É–Ε–Β –Φ–Β―¹―è―Ü, –Κ–Α–Κ –≤ –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä―É–Β―² –î―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²–Β–Α―²―Ä –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α―é –Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è, ―É―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α, –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –‰ ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –Η ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β ―²–Ψ–Ε–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–±–Ψ–Β–≤―΄–Φ¬Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ê ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ―à–Η–Μ–Ψ¬Μ, ―²–Ψ–Φ–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Κ―²–Β–Ι–Μ―è ¬Ϊ–Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤–Α―è –€–Β―Ä–Η¬Μ –Η –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Β―¹―΄ –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ï–Μ–Η―¹–Β–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ. –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Α―è).
–ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―É―Ä–Β, ―è –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Α–≤–Κ―É¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Μ–Η―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι¬Μ ―¹―²–Η–Μ―¨ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –‰―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―² –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―² ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ψ―² ―³―Ä–Η–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ ―É―²―è–Ε–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –≤–Η–Ζ–Η―²–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ―ë–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –≤ 2000 –≥–Ψ–¥―É, –Ϋ–Α 37 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–ù–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Γ–Ψ―Ü–Η―É–Φ–Α, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Α, –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―²–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―², ―¹–Μ–Β–¥―É―é―² –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ –Ω―è―²–Α–Φ, –Μ–Α―¹–Κ–Α―é―², –¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è―é―² –Η –±―¨―é―² –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Η –Η, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, –¥–Ψ―¹―¨–Β. –‰ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ, –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η–Φ –≤ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η–≤ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Β. –ö―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Η–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–¥–Η–Κ–Η –Η –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –Η –Η–Ζ―É―΅–Α―²―¨ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Ι. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Α―³–≥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Η–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ¬Μ, ¬Ϊ―΅–Β―΅–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Η–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –Γ―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –≤―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –Ψ–≥–Ϋ―è, –Η–Ζ ¬Ϊ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Α¬Μ, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η. –‰ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Κ–Α―²―É―à–Κ―É¬Μ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Α ―à–Μ–Η –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –Η, –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –≠―²–Α –Φ–Β–Ε–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α―è ¬Ϊ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±―É―Ö–Α¬Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Α ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Ψ–Φ Wolfgan Petersen –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α¬Μ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Η–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É LotharβÄ™Gunter Buchheim. –ù–Α―à–Η –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η.
–û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –≤―΄–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É, –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ―É –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ¬Ϊ–Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η¬Μ. –‰ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Μ―è–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, ―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Β, ¬Ϊ–Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Β¬Μ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ε―ë―¹―²–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Β –Κ–Α–Κ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β. –û –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ –Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Η―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ―΄. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–ΫβÄ™–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü.–ü. –€–Α–Μ–Α–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–ΓβÄ™13¬Μ (–Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ). –½–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Β–Μ ―à–Β―¹―²―¨ –±–Μ–Η―¹―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–±–Β–¥. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ ―à―²―Ä–Α―³–±–Α―². –£ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅―ë―²–Β, –±―΄–Μ ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –£–€–Θ.
–Δ―è–Ε―ë–Μ–Α―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ–Α –€–Α―²–Η–≥―É–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Η–≥–Ζ–Α–≥–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―É–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ ―à―²―Ä–Α―³–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≤–Ψ–¥ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α. 28 –Φ–Α―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α –‰.–½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 12-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ö–ë–Λ.
–½–Α–Ι–¥―É–Μ–Η–Ϋ. –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ –€–Α―²–Η–≥―É–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–±―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Β―è–¥―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤: ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –î–Ε–Α–Φ–Α–Μ–Α –Η –†―É―¹―²–Α–Φ–Α; –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤-–±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –ß–Β―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö: –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –û–Μ–Β–≥–Α –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≥–Ψ―Ä―è.
–ê –Ϋ–Α―à –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ, –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ β³• 1 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α―¹¬§―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è¬Μ, –¥–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–≤―É―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ. –½–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–ΨβÄ™–Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–ΨβÄ™―²–Η―²―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ–Β–Ι ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É –Δ―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ –±―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è ―³–Α–Κ―²―É―Ä–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β―é ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―²―¨―¹―è. –ï―¹–Μ–Η ―¹ ―É–±―΄―²–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―â–Α–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, ―²–Α–Κ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Η –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è. –‰–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ ―É–±―΄―²–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Α ―É―΅―ë–±―É –Η–Μ–Η –Β―â–Β, –Κ―É–¥–ΑβÄΠ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ. –Δ–Ψ –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Η–Ζ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α –¥–Μ―è ¬Ϊ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Η –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Κ–Β―². –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –¥–Α–Ε–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, βÄ™ –¥–Α―ë―²―¹―è ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –¥–Μ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η.
–Γ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Α –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ö-324¬Μ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –Δ–Β―Ä―ë―Ö–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ –ö–Α―Ä–Η–±―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―Ö–Ψ–¥, –Ϋ–Α–Φ–Ψ―²–Α–≤ –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―² –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α. –ê–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ–Α–±–Β–Μ―¨ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ 15-20 –Φ–Φ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –¥–Β–Ι–¥–≤―É–¥ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ –Μ–Η–Ϋ–Η―é –≤–Α–Μ–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨―¹―è –Κ―É–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤ –≤ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Γ–®–ê, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Η–Φ –Η―Ö ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Μ–Η –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Φ–Η–Μ―¨. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ–±―΄―΅–Β–Ι –¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Η ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Ψ―²―Ä―É–±–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–±–Β–Μ―è –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–≤ –Η–Φ –≤–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α.
–ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ϋ–Α–≥–Ϋ–Β―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –¥―Ä–Α–Ι–≤–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä―É―è ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–±–Β–Μ―¨. –‰ –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –≤–Ζ―è―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à―É―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –Δ–Β―Ä―ë―Ö–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ¬Ϊ–Κ–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄¬Μ –Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É–±–Κ–Η. –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ë–ß-III βÄ™ –Ζ–Α–Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Β―ë –Κ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―É.
–û–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Η –Ψ―¹―²―É–¥–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―΄–Μ. –‰, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –Η–Φ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Κ ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–≤–Α―Ä―É―Ö–Α¬Μ ―É ―¹–Α–Φ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Γ–®–ê, –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―Ä–Η–¥―΄ βÄ™ ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ¬Ϊ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η¬Μ –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–≤ III –€–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –‰ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ¬Ϊ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ω–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–≤ –Β–≥–Ψ –‰–Φ―è –Η –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, ―¹ –ù–Ψ―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η βÄ™ –¥–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―ç―²–Η –¥–Ϋ–Η.
–î–Μ―è –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ε―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤.
–ê –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç―²–Η–Φ βÄ™ –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ βÄ™ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Γ–®–ê –Λ―Ä–Α–Ϋ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α –†―É–Ζ–≤–Β–Μ―¨―²–Α –Η –ü―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –Θ–Η–Ϋ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―è –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö (–Η–Ζ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι).
¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α –ü―ë―Ä–ΜβÄ™–Ξ–Α―Ä–±–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –†―É–Ζ–≤–Β–Μ―¨―² –±―΄–Μ –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ¬§–Μ–Η―Ü―É –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É: –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β¬§–Μ–Α―²―¨. –‰, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β¬§–Φ–Β–Ϋ–Η –±―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Β–Η. –‰, –Κ–Α–Κ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² βÄ™ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –ù–Α ―΅―²–Ψ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –Γ–®–ê ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–½–Α ―΅―²–Ψ ―è –Μ―é–±–Μ―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è ―΅–Β–Ω―É―Ö–Ψ–Ι¬Μ.
–£―²–Ψ―Ä–Η–Μ –Β–Φ―É –Θ–Η–Ϋ―¹―²–Ψ–Ϋ –ß–Β―Ä¬§―΅–Η–Μ–Μ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –Δ―É–Ϋ–Η―¹–Α –≤ –€–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―é, –Ϋ–Α –ö―É―Ä―¹―΄ ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (–≤―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö βÄ™ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–û–¦–Γ–û–öβÄô–Α βÄ™ –£―΄―¹―à–Η–Β –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –ö–Μ–Α―¹―¹―΄). –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ βÄ™ ¬Ϊ–Μ–Β―²–Α―é―â–Α―è –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨¬Μ, –Ϋ–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–Η–Ϋ–≥¬Μ –Ω–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η¬§―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –≤–Ζ–Μ–Β―²–Β―²―¨, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä. –ù–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ¬§―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ ¬Ϊ–Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ?!¬Μ –ü―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥¬§–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤¬Μ. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ–±¬§―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤ 300 ―²―΄―¹―è―΅ ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤―¹―ë ―²–Β―Ö –Ε–Β ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤¬Μ.
–ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Β―¹―²―¨ –Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―é, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α, –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–≤–Ψ―²―É–Φ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è¬Μ. –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―². –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–ΨβÄ™–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ ―¹―²―Ä–Ψ―é: ¬Ϊ–½–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η!¬Μ –ê ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―é―², –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄, –≤–Μ–Η―è―é―â–Η–Β –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à―É―é ―¹―É–¥―¨–±―É. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤ –Η–Φ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄―Ö.
–î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö βÄ™ ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –‰–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –î–Μ―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―²¬Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Α βÄ™ 8 –Μ–Β―² –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (3 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η 5 –Μ–Β―² βÄ™ –Κ-―Ä –ë–ß-I)βÄΠ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–ΦβÄΠ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦βÄΠ –Η –¥–Α–Μ–Β–Β, –¥–Α–Μ–Β–ΒβÄΠ
–î–Α, –Η –Α–≤―²–Ψ―Ä ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β 10 –Μ–Β―² (―¹–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η). –ß–Β–Φ –Η –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨, –Ω–Α–Φ―è―²―É―è –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α―Ö –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Γ–† –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α.
–‰–¥―è –Ω–Ψ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –£―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ(!), –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―à―¨ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η ―¹ ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β.
–ê –≤–Β–¥―¨ –±―΄–Μ–ΨβÄΠ –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ―΄―¹–Α –ü–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨. –·, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² βÄ™ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β. –£ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Α―è–Κ, –Μ―É―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Α–Β―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Β―²―¹―è –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Α–Ϋ–Η–Β ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–ΑβÄΠ –ê –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Η–Φ–Ψ !!!
–£―¹―ë ―ç―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ ―¹–Β–±–Β ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Η ―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η ―΅―ë―²–Κ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –Η –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è―Ö. –ù–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α –Η –Β―¹―²―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è!!! –‰ –Ω―Ä–Η –Μ―é–±―΄―Ö –Ζ–Α–Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―É –û–Κ―É–¥–Ε–Α–≤―΄: ¬Ϊ–ï―â―ë ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―΅–Β―² –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―²―Ä―É–±–Ϋ―΄–Ι, –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―É–Ε–Β –≤ ―¹–Β–¥–Μ–Β¬Μ.
–‰ –Β―â―ë –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é 27 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ―É―Ä–Α―²―É―Ä―΄, –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 57 ―¹―²–Α―²―¨―é –Θ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Γ–†, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1960 –≥., ―²–Ψ –±–Η―à―¨, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –½–ê–ö–û–ù, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α: ¬Ϊ–£―¹–Β –Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ?¬Μ, –¥–Β–Μ–Α―è ―É–Ω–Ψ―Ä βÄ™ ¬Ϊ–Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ¬Μ.
–Γ–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ ―²–Β―Ö ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –±―΄–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –Δ–Β―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –ù–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–Λ–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä¬Μ, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι IX –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ ―è –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ ―²–Α–±–Μ–Η―Ü―΄ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―¹―²–Α–≤–Α.
–Δ―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―¹―²–Α–≤–Α
ⳕ
–Ω–Ω |
–½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ |
–ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹―²–Α―²–Β–Ι
–Ψ–± –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η
–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö |
–ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ
―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü
–≤ –Θ―¹―²–Α–≤–Β |
| 1 |
–€–Α―²―Ä–Ψ―¹ |
3 |
4 |
| 2 |
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η |
9 |
4 |
| 3 |
–ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è |
7 |
3 |
| 4 |
–½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² |
2 |
4 |
| 5 |
–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α
|
10 |
5 |
| 6 |
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è |
56 |
27 |
| 7 |
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η |
19 |
6 |
–ß―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–≤ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ, –Η –Ψ―²–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² –Μ―é–Κ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ –≤\―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ, ―è ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Ψ―â―É–Ω―¨ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è βÄ™ ¬Ϊ–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ζ–Β–≤–Α–Μ―¹―è –Μ–Η ―²–Α–Φ –Κ―²–Ψ¬Μ. –ß―²–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α ―²–Α–Η―²―¨: –≤–Β–¥―¨ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Ψ ―²―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ¬Ϊ–≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Ζ–Α–±–Ψ―² βÄ™ –ö–û–€–ê–ù–î–‰–† –ü–û–î–£–û–î–ù–û–ô –¦–û–î–ö–‰ βÄ™ –Π–ï–ù–Δ–†–ê–¦–§–ù–û–ï –½–£–ï–ù–û, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –ü–û–î–£–û–î–ù–Ϊ–ô –Λ–¦–û–Δ.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –ù–ê–ß–ê–Δ–§ –£–û–ô–ù–Θ, –£–ï–Γ–Δ–‰ –ë–û–ï–£–Ϊ–ï –î–ï–ô–Γ–Δ–£–‰–· –Γ –ü–†–‰–€–ï–ù–ï–ù–‰–ï–€ –·–î–ï–†–ù–û–™–û –û–†–Θ–•–‰–· –‰ –£–Ϊ–‰–™–†–ê–Δ–§ –£–û–ô–ù–Θ, –Θ–ù–‰–ß–Δ–û–•–‰–£ –Δ–û, –‰–¦–‰ –‰–ù–û–ï –™–û–Γ–Θ–î–ê–†–Γ–Δ–£–û.
–î–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β: ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ë–Ψ–≥–Α¬Μ. –Θ –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö.–€., –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–Θ–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨¬Μ: –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Β–≤―à–Β–≥–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è, –Α –≤–Η–Ϋ―²―΄ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Κ–Α–Φ–Ϋ―è–Φ. –£―¹–Β –≤–Ζ–Ψ―Ä―΄ ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι –Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Ψ–Ι ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ, –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, ―Ä―É–Κ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–Μ–Β–≤―à–Η―Ö ¬Ϊ–Κ–Ψ―¹―²―è―à–Β–Κ¬Μ –≤―Ü–Β–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α. –ù–Ψ –Η –≤ ―ç―²–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–ΒβÄΠ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Η –¥–Ψ–Μ–Η ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨: ¬Ϊ–ü–Α―Ä―É―¹–Α ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨!¬Μ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è.
–Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―¹ –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö-56¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β―ë –Ω―Ä–Ψ―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ (–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä) ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ë–Β―Ä–≥¬Μ. –Θ–¥–Α―Ä –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ (–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –¥–≤―É–Φ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η). –û―²―¹–Β–Κ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Α: –≤–Ψ–¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Ψ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―³–Ψ–Ϋ–Α –Ψ–±―â–Β –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η. –‰ –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ―΄―à–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –ü―à–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ι―²–Β ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨βÄΠ¬Μ –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Β―¹–Μ–Α―¹―¨ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨.
–½–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ,βÄ™ –Ψ―² –Η―Ö –Ψ–±―â–Β―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―² –Η―Ö –Φ–Η―Ä–Ψ–Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–¥–Η―è –ê―Ä–Φ–Α–≥–Β–¥–¥–Ψ–Ϋ–Α βÄ™ ¬Ϊ―ç―¹―Ö–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤―΄ –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Β –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ¬Μ
–ê –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Μ–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤ ―²–Ψ–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤ –Η―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η.
–Γ–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ βÄ™ ¬Ϊ–ü–Α–Φ―è―²―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α¬Μ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ê.–ï.–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι―΅―É–Κ–Ψ–Φ (1969–≥.) –±―΄–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä –Α–Κ―²―ë―Ä–Ψ–≤ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι: –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤–Η–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ü–Α―Ä―²–Β―Ä (–±–Α–Μ–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Μ–Ψ–Ε–Β–Ι –≤ –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ) –Ζ–Α―²–Α–Η–≤ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ϋ–Β–Ι –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α βÄ™ –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Ψ–Ι –°–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Γ–Η–Φ―³–Β―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α. –ê ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è, –Ϋ–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² ―Ä–Ψ―è–Μ―è, –≤―΄–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Β―Ü―Ü–Ψ-―¹–Ψ–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―¹―΄ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―É –ï–Μ–Β–Ϋ―΄ –û–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι.
–ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –±―΄–Μ–Η –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ζ–Α―¹–Η–¥–Β–≤―à–Η–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄ –Ψ―²–≤–Η–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Κ–Η –Η –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Η–Ϋ―²–Η―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥―¨ –Ω–Β–≤–Η―Ü―΄ (–Ω–Ψ–≤–Β―Ä―¨―²–Β –Φ–Ϋ–Β βÄ™ ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Η–Ϋ―΅–Η–≤–Α―²―¨). –‰ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –Η –¦–Β–≤ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ―è–Ϋ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, βÄ™ –±―É–¥―É―â–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
–· ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Η–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Α –ü―Ä–Η–Φ–Α ―²–Β–Α―²―Ä–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β (―².–Β. –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β). –Γ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Α–Ϋ―Ä–Α
–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ βÄ™ ―ç―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Μ–Η –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –‰–Φ―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω–Ψ-–Φ―É–Ε―¹–Κ–Η –Μ–Η ―ç―²–Ψ. –· –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Ψ―ë ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Η –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄. –Δ–Β–Α―²―Ä―΄, –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Η –≤ –Η―Ö –Η–≥―Ä–Β, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤―É–Α–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Η–Φ –Η–Μ–Η, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω―Ä–Β–Μ―é–¥–Η―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ―΅–Α―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―² –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α―Ä―É–Ε―É –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Α–Κ―²―ë―Ä–Ψ–≤. –£ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Η–Κ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –½–≤–Β–Ζ–¥―΄ –Δ–Β–Α―²―Ä–Α –Η –ö–Η–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨. –û–Μ–Β–≥ –®–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ βÄ™ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Α–Κ―²―ë―Ä, –Μ―é–±–Η–Φ–Β―Ü –û–¥–Β―¹―¹–Η―²–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Η–Ζ―Ä―ë–Κ –Η–Ζ TV: ¬Ϊ–Δ–Β–Α―²―Ä –Ϋ–Α –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ―è―ÖβÄΠ –Θ–Β―Ö–Α–Μ ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι¬Μ.
–‰ –Ω–Ψ―É―²―Ä―É, –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ–Α: ¬Ϊ–ù―É, –≥–¥–Β –Ε–Β –Φ–Ψ–Η ―²―Ä―É―¹–Η–Κ–Η?! –· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ–Ε―É –≤ ―²―Ä―É―¹–Η–Κ–Α―Ö¬Μ. –ê –Ψ–Ϋ–Η, ―ç―²–Η ―²―Ä―É―¹–Η–Κ–Η, –≤ –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Α―²–Ψ―Ö–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨.
–£–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–¥ (?!) βÄ™ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –±–Ψ–Φ–±–Α –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è.
–Δ–Α–Κ ―É–Ε –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Φ–Ψ―è –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –‰–Μ―¨–Η–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η βÄî –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –î–Β―²–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―É (–Ω–Β―Ä–≤―É―é ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨) –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ζ–Η–Φ–Α βÄî–Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –Α –Ω–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –≤―¹―ë –Μ–Β―²–Ψ –Η –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ βÄî –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β.
–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι –ß―É–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β, –¥–Β―²–Η, –≤ –ê―³―Ä–Η–Κ―É –≥―É–Μ―è―²―¨!¬Μ. –· –Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α―é! –•―ë–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤! –ù–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Ι―²–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–Η–Ζ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è¬Μ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ε―¨–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Φ―É!!! –£ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ (–Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―É―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Α) ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è: –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―â–Α―Ö –Ω–Η―¹–Α―²―¨ (?!), –Η–Φ–Β―è –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Β―ë –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹–Α–Φ–Η: –Φ–Β–Μ–Ψ―΅―¨―é –Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―è–Κ–Ψ–Φ βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –ë–Ψ–Β–≤―΄―Ö –î–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤.
 –ï―¹–Μ–Η –£―΄, ―¹–Η–Β ―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Β, –Ϋ–Β ―³–Α―Ä–Η―¹–Β–Η, –Ϋ–Β –Ω―É―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η―²–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι.
–ï―¹–Μ–Η –£―΄, ―¹–Η–Β ―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Β, –Ϋ–Β ―³–Α―Ä–Η―¹–Β–Η, –Ϋ–Β –Ω―É―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η―²–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι.
–‰ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –±―΄–≤–Α–Β―² βÄ™ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Κ―É―¹―²–Α―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Ψ―è–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―΅―¨ –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –ö–Μ―é―΅ ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ IPhone βÄ™ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨, ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―â–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ (―è –¥―É–Φ–Α―é, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è, –¥–Α–Ε–Β –¥–Μ―è –Ψ―²―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Ψ–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ –Κ–Ψ–Η–Φ ―è ―¹–Α–Φ ―¹–Β–±―è –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ―è―é). –Λ–Ψ―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –™–Ψ–Μ–Μ–Η–≤―É–¥–Α –Ω–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β 46-–≥–Ψ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Γ–Α–Ϋ –î–Η–Β–≥–Ψ. –≠―²–Ψ―² ―¹–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Κ, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ –ß–Β―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä―É–Ε―¨―ë, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―²―¨βÄΠ –Η –Ψ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ–Ψ.
 –€–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –≤ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―É–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―É–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Ψ–ΙβÄ™ ―¹–Α–Φ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Β―¹―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, βÄ™ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ζ–Ψ―Ä―¨–Κ–Α.
–≠―²–Ψ―² –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –≥–¥–Β ―΅–Β―¹―²–≤―É―é―² –≥–Ψ–Μ–Μ–Η–≤―É–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ–≤―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–ΙβÄΠ –Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –Κ–Η–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β.
–€–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –≤ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―É–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―É–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Ψ–ΙβÄ™ ―¹–Α–Φ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Β―¹―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, βÄ™ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ζ–Ψ―Ä―¨–Κ–Α.
–≠―²–Ψ―² –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –≥–¥–Β ―΅–Β―¹―²–≤―É―é―² –≥–Ψ–Μ–Μ–Η–≤―É–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ–≤―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–ΙβÄΠ –Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –Κ–Η–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β.
–€–Ψ–Η –Ε–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Ψ–Ι –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Α–¥–Α―é―² –Ω–Ψ–¥ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄. –‰ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―² βÄ™ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β.
–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤, ―É―΅―ë–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄, ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ε―ë–≤―΄–≤–Α–Β―² ―¹ –Η–≥―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―³–Ψ―Ä―²–Β–Ω―¨―è–Ϋ–Ψ. –ê –Β–≥–Ψ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α –≤ –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β ―¹ –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Μ–Β―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α―É―Ä–Ψ–Ι. –ê―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α―¹―² –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄―²–Η―è: –Ω–Ψ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι βÄ™ –≤―¹―è –≥–Α–Φ–Φ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ―è.
–‰ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Α–Κ βÄî ¬Ϊ–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄!!!¬Μ
–ê ―É–Ε –Ϋ–Α―à–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Η, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Η –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Η―²–Η–Ϋ―΄, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–≤–Α―é―², –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ―è―é―² ―ç―²―É ―É―΅–Β–Ϋ―É―é –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: ¬Ϊ–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤―Ä–Β–Φ―è, –Μ―é–¥–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ ―²–Β―Ä―è―é―²βÄΠ¬Μ –‰ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α―²―¨(?)βÄΠ–Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η!
–‰–Μ–Η –Β―â–Β –≤–Ψ―²: –Γ–Μ–Α–≤–Α –€–Α–Μ–Β–Ε–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―²–Β–Φ―É...
–‰―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ï―â―ë –Φ–Β―¹―è―Ü –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Α ―²–Β–Α―²―Ä –¥–Α–≤–Α–Μ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Η –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –±―É―Ö―²―΄ –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η –≤–Β–Ζ–¥–Β –Φ―΄ ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ―²–Β–Α―²―Ä –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ¬Ϊ–Φ–Β―Ü–Β–Ϋ–Α―²–Ψ–≤¬Μ. –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ε –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α.
–ê–Κ―²―ë―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ü–€-28¬Μ, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Α–Κ―²―ë―Ä―΄. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ¬Ϊ–ü–€-–Κ–Η¬Μ –™–Α–Κ–Α–Μ–Ψ –‰–Μ―¨―è –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Ε–Η–≤―É―â–Η–Ι –Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –¦―é–¥–Φ–Η–Μ―É –™―É―Ä―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –≠–¥–Η―²―É –ü―¨–Β―Ö―É, –¦―é–¥–Φ–Η–Μ―É –½―΄–Κ–Η–Ϋ―É, –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –ü―Ä–Η–Φ–Α –Ε–Β ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ε–Η–Μ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è.
–‰ –Ψ–Ω―è―²―¨, –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β, ―è –¥–Β–Μ–Α―é –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–≤ –Ψ –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Β –½―΄–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –· –¥―É–Φ–Α―é, –±―É–¥–Β―² –Κ –Φ–Β―¹―²―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Β―ë ―à–Β―³―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-115¬Μ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –€–Α―Ä–Α―² –ö–Α–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –£–Ψ―Ä–Ψ–±―¨―ë–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η –¦―é–¥–Φ–Η–Μ―É –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ―É –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Μ―é–¥–Ϋ–Ψ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –Β–Ι ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ―É ―¹ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Ψ–Ι. –‰ –Β―¹–Μ–Η –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –½―΄–Κ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹ –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –Κ―Ä―é–Κ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –¥–Μ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ¬Ϊ–ö-115¬Μ.
–€–Α―Ä–Α―² ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ¬Μ.βÄΠ –ê –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –£–Ψ―Ä–Ψ–±―¨―ë–≤ –±―΄–Μ –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö ―É –¦―é–¥–Φ–Η–Μ―΄ –½―΄–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Κ–ΒβÄΠ –Ζ–Α–Φ –≥―Ä―ë–±, –Α –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –Ω–Β–Μ–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ―É –Ψ ¬Ϊ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ.
–ù–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Ψ ―¹–Β–±–Β, –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰―²–Α–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É ―²–Β–Α―²―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β, –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η –€–Β–Μ―¨–Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Ε–Η–Μ―¨–Β. –€―É–Ζ―΄–Κ–Α, –≥–Η―²–Α―Ä–Α, –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –°―Ä–Α –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ –±―΄–Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²–Β―Ö ―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–Κ. (–®―²–Α–± –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –°―Ä–Α, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Κ―É –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É). –™–Η―²–Α―Ä–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –°―Ä―΄ –Ω–Β–Μ–Α –û–Κ―É–¥–Ε–Α–≤–Ψ–Ι –Η –£―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η–Φ. –ß―²–Ψ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ¬Ϊ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Ψ¬Μ –Φ–Ψ―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―Ö–Ψ. –ù―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨ βÄ™ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Ε–Β―Ä―²–≤.
–Γ–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ ―²–Β―Ö ―à―É–Φ–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Β–¥ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É (–Ϋ–Α–¥–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι, 3 ―ç―²–Α–Ε) –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ë–Β―Ü, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨ ―¹–Φ–Α―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α–Μ―΄ –Β–≥–Ψ –‰–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥, ―².–Β. –ë–Β―Ü –£.–‰., –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –€–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –û–Ϋ ―É–Ε –Φ–Ψ–≥ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Α –Η –Κ–Α–Κ –Β―â―ë (!) ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤–Α.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―É–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ. –ö–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Β―² –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö. –‰ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ –Κ―É―Ä―¨―ë–Ζ–Α. –¦–Β–≤ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ―è–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Ω―Ä―è–Φ–Β―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –£–Β―¹–Β–Μ―¨―è –±–Β–Ζ ―à―É–Φ–Α –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―²: –≤―¹―ë –Ε–Β –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –¥–Α –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Α–Κ―²–Η–≤.
–ù–Ψ –Ψ–Κ–Ϋ–Α, –≤―¹―ë –Ε–Β, –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―à―²–Ψ―Ä–Β–Ϋ―΄. –ê –¦―ë–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ψ–Κ–Ϋ―É –Η ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è¬Μ. –ù–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Β–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ―è–Ϋ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Α–Ω―É –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–€–Α–Φ–Α, –Φ–Α–Φ–Α! –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η –≤–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―à –Ω–Α–Ω–Α!¬Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –≤ –¥–≤–Β―Ä―¨. –û―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―é. –€–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹: ¬Ϊ–¦―ë–≤–Α, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η! –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―²–Β–±–Β –±―É–¥―É―² –±–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–¥―É!¬Μ. –ê ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä: ¬Ϊ–ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β?!¬Μ. –î–Α, –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β!!! –ù–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, ―²–Α–ΦβÄΠ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –Μ–Β―²βÄΠ –ê –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Κ―Ä–Η―΅–Η―² –Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–±–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–≥–Α–Ι ―²–Α–Ω–Α ¬Ϊ–Α–Φ–Α–Ζ–Ψ–Ϋ¬Μ –†–Η–Κ–Κ–Α: ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α! –Δ–Ψ―Ä―Ä―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α, ―¹―Ä―Ä―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―Ä―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β!¬Μ. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É: –Δ―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥¬Μ –†–Η–Κ–Κ–Η ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η―à―¨: ¬Ϊ–Δ―É―Ä―Ä―Ä–±–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α!¬Μ. –ù―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨, –Ω–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Α –Η–Ζ –Κ/―³ ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Α, –£–Ψ–Μ–≥–Α¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² ―É―΅–Η―²―¨―¹―è,
–£–Η–Ζ–Η―² –Ε–Β–Ϋ―΄ –¦―ë–≤―΄ –Η–Φ–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è βÄ™ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Β–Ι –Η―¹―΅–Β–Ζ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Α–Ω–Ψ–≥ –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η ―ç―²―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –ö–Ψ–Φ–Α―Ä–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–ö–Α–Κ ―²–Α–Φ, ―É –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α―à–Μ–Η―¹―¨?¬Μ (–Φ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η).
–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α―²–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ψ ―΅―ë–Φ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Η –Ω–Ψ―¹―É–¥–Α―΅–Η―²―¨.
–£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –®―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ ―²–Β–Φ–Α ―²–Β–Α―²―Ä–Α –±―΄–Μ–Α ―²–Β–Φ–Ψ–Ι –î–Ϋ―è. –£–Ψ―² –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹–Α: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤–Μ―é–±–Η–Μ―¹―è –≤ –Α–Κ―²―Ä–Η―¹―É –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α¬Μ.
–Δ–Β–Α―²―Ä ―²–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –Φ–Η–Φ–ΨβÄΠ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–±―è –Μ–Η―à―¨ ―è―Ä–Κ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –ê ―è –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―ë ―¹ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é. –î–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―É–¥–Η–≤–Μ―è―é―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–≥–Μ–Α―¹–Κ–Η –±―΄–Μ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ –≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é, –¥–Α –Β―â―ë –Η –±–Β–Ζ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Λ–Μ–Ψ―²―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄.
–£ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β–Φ, –Φ―΄ –Ϋ–Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β ¬Ϊ–Φ–Β―Ü–Β–Ϋ–Α―²―¹―²–≤–Ψ¬Μ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β.
–ê –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Ψ–Ι –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Β ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ. –£ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β, –≥–¥–Β –Ψ―²–Ω–Μ―è―¹―΄–≤–Α–Μ –Μ–Β–Ζ–≥–Η–Ϋ–Κ―É –ö–Η–Κ–Α–±–Η–¥–Ζ–Β –≤ –Κ/―³ ¬Ϊ–€–Η–Φ–Η–Ϋ–Ψ¬Μ, –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –Ω–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Α–Κ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Β–Φ–Β–Ϋ―² ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α, –Α –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―Ä―É–Κ―É.
–‰ –Β―â―ë –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-324¬Μ βÄ™ ―É –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –£–Η―²–Α–Μ–Η―è –Δ–Β―Ä―ë―Ö–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ–Α(!), ―΅―²–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –±―΄ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α–≤―à–Η–Ι –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä, –Κ–Α–Κ ―É –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι¬Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ¬Ϊ–€–Α―Ä–Η–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ¬Μ.
–ï―¹–Μ–Η –ê.–Γ.–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è ¬Ϊ–ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ–Α¬Μ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: ¬Ϊ–ê–Ι, –¥–Α –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ, –Α–Ι, –¥–Α –Γ―É–Κ–Η–Ϋ ―¹―΄–Ϋ!¬Μ, ―²–Ψ ―è, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―É―¹, –Η–Ζ―Ä–Β–Κ―É: ¬Ϊ–ê–Ι, –¥–Α ―è, –Α–Ι, –¥–Α –™―É―¹―¨!!!¬Μ
(–Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α)
|
|
18. –•–Β–Ϋ–Β –¦–Η–≤―à–Η―Ü―É βÄî 80 –Μ–Β―²
| |
(–Κ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è)
–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –•–Β–Ϋ―è –¦–Η–≤―à–Η―Ü –Ω–Ψ –≤―΄–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ζ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è.
 –Θ–Ε–Β ―¹ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Μ–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Ψ–Μ–Η –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â―ë–Ϋ –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄―²–Η―é.
–£ ―¹–≤–Ψ–Η –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –•–Β–Ϋ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
–Θ–Ε–Β ―¹ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Μ–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Ψ–Μ–Η –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â―ë–Ϋ –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄―²–Η―é.
–£ ―¹–≤–Ψ–Η –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –•–Β–Ϋ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
1942 –≥–Ψ–¥. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –™–Β–Μ–Β–Ϋ–¥–Ε–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –™–Β–Μ–Η–Ϋ–¥–Ε–Η–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –¥–Μ―è ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –•–Β–Ϋ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι, –£–Β―Ä–Ψ–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–©-203¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-V –±―΄–Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –¦–Η–≤―à–Η―Ü, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –•–Β–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –†–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1939 –≥–Ψ–¥–Α.
–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Η–Φ–Β―é―² ―¹–≤–Ψ―é –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ―É―é, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é. –Γ–Α–Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―Ü–Α –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –¥–Μ―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―é–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Α ―²―É–¥–Α –Η–Ζ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α ―Ü–≤–Β―² –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹―²–≤–Α. –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―É, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –™–Β–Μ–Β–Ϋ–¥–Ε–Η–Κ–Α, –≥–¥–Β ―É–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Η, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü―΄ –Η–Ζ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η ―²–Α–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Ζ–Α―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ –Η―Ö ―΅–Β―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―É βÄî –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Α―è. –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Η –Η–Φ–Β–Ϋ―É–Β―²―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨.
–ü–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö βÄî ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è, –≤―Ä–Α―΅–Η, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α. –•–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä―ë–Κ–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –Ϋ–Ψ –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ―É –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É, ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―é –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤–Ζ―è–Μ –Β–≥–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é.
–û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―à―²―Ä–Η―Ö–Ψ–≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –¦–Ψ–¥–Κ―É –©-203 (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Β–Φ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–Ϋ–Ϋ–Ψ–Κ–Β–Ϋ―²–Η–Β–≤–Η―΅) ―¹ –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η. –û–Ϋ–Α –Ψ―²–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Η –¥–Β―²–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ―΄–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Ϋ–≥–Η–Ϋ–Κ–Η–Ϋ. –Γ–Α–Φ–Α –Ε–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –≤ –ü–Ψ―²–Η –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ –£–Β―Ä―É –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É –Η –•–Β–Ϋ―éβÄΠ –Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –£―¹―é –•–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–ê –¥–Α–Μ―¨―à–Β –•–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é ―ç―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α: ―à–Κ–Ψ–Μ–Α, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –ΗβÄΠ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α βÄî –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V.
–ù–Α –Μ―é–±–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Η –Β―¹―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―ç―²–Η –¥–≤–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―â–Α―é―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Μ–Η –Η –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³―΄. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ë–ß-V –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―²―¹―è ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –û–Ϋ–Η –Ε–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –≠–€–ß. –•–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η.
–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ω–Ψ–Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β.
–ü―Ä–Η –≥–Ψ―Ä–±–Α―΅–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β –ï.–Γ. –¦–Η–≤―à–Η―Ü –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Δ–Β―Ö–Θ–Ω―Ä–Α –±–Β–Ζ –≤–Η–Ζ―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄. –ù–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –Ξ–≤–Α―²–Ψ–≤–Α –Η –Ϋ–Α ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Δ–Β―Ö–Θ–Ω―Ä–Α –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –™–Ψ―Ä–±–Α―Ä―Ü–Α –Ψ–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²–≤―ë―Ä–¥―΄–Φ: ¬Ϊ–ù–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –•–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä―É –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ, ―²–Ψ ―²–Β–Φ –¥–≤–Ψ–Η–Φ ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ¬Ϊ–¥–Β―è―²–Β–Μ―è–Φ¬Μ (–Ψ–¥–Η–Ϋ βÄî –Φ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-66¬Μ) –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α. –½–Α ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η –Ψ–±–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –¥–≤–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–€–Β―Ä―¹–Β–¥–Β―¹–Α¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ¬Ϊ–ü–Α―à–Η-–Φ–Β―Ä―¹–Β–¥–Β―¹–Α¬Μ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β, βÄ™ –™–Β–Ϋ–ΑβÄΠ
–ï―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―à―²―Ä–Η―Ö. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α –Η–Ζ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ –ê―³―Ä–Η–Κ―É ―É –Φ―΄―¹–Α –î–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι –ù–Α–¥–Β–Ε–¥―΄, –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –Κ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α, –Κ –Φ–Β―¹―²―É –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹―à–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –€–Α–¥–Α–≥–Α―¹–Κ–Α―Ä –Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Γ―É―ç―Ü–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä-–Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤―â–Η–Κ. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ, –Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, ―¹ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –™–û–Γ–Δ–Α, ―΅―²–Ψ, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅―ë―²–Β, –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Β ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄ™ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ, ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ―΅–Κ–Η. –ë–Μ–Α–≥–Ψ βÄî –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ βÄ™ –≤ –‰–Ϋ–¥–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¨–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç―²–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é ¬Ϊ–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–†¬Μ. –ê –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Κ―Ä–Η–Κ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄: ¬Ϊ–ß―²–Ψ ―²–Α–Φ ―É –≤–Α―¹ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―É–Ω―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Ψ?! –Θ–±―Ä–Α―²―¨! –Γ–Ϋ―è―²―¨ ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η!¬Μ. –ê –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–≤–Ψ―ë: ¬Ϊ–ù–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ!¬Μ –ü―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è (―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Α―è ―¹–≤―è–Ζ―¨ –¥–Μ―è –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Β―¹―É―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ). –†–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨. –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –¦–Η–≤―à–Η―Ü –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β: –Η–Ζ –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Ι –ê―³―Ä–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―É―é –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É.
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―è –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ βÄî –Π–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Α―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α―à―É ¬Ϊ–ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―é –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η–Φ. –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ¬Μ.
|
|
19. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β ―à―É―²–Κ–Η
| |
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η ―à―É―²–Η―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹ –Ψ–≥–Μ―è–¥–Κ–Ψ–Ι
–£ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ βÄΠ βÄ™ ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–¥–Φ―΄–≤–Α–Β―² –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Ψ –¥–≤―É―Ö –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α―Ö –Η–Ζ –Κ―Ä―É―²–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä–Α. –≠―²–Ψ ―è –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–Κ―¹―²–Α―²–Η –Ω–Ψ―à―É―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β. –· ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü―΄: ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Η –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²? –û―²–Ζ–Ψ–≤–Η―²–Β―¹―¨!¬Μ
–Γ―É–¥―¨–±–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Α –Ψ―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É: –Ψ―² –Β–≥–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥―É―Ä―¹―²–≤–Α. –ï―¹–Μ–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –≤ ―²–Β―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö, ―¹ ―è―Ä–Κ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ 37 –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ (–Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Ψ―é –Β―â―ë –±―É–¥–Β―² –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ!!!), –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―É βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Γ–ö–† ¬Ϊ–ë―É―Ä―É–Ϋ¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨, ―²–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Γ.–™., –±―É–¥―É―΅–Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ –±–Β–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ, ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Η―Ö ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ. –ß–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹ –ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥–Ψ–Ι.
–ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―¹ –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Ι –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥―΄. –®―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―É–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α –Η, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―è –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –£–£–î (–≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è). –î–Η–Ζ–Β–Μ―è ¬Ϊ37βÄ™–î¬Μ –≥―Ä–Ψ–Φ―΄―Ö–Α―é―² ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –ê–ë. –ï―¹–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ψ–Κ–Ϋ–Α―Ö –Ω―è―²–Η―ç―²–Α–Ε–Β–Κ ―¹―²―ë–Κ–Μ–Α –¥―Ä–Β–±–Β–Ζ–Ε–Α―², ―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –≥―É–¥―è―² –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Φ―΄ –≤ –ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α―Ö. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –Κ―É―Ä–Ψ―Ä―²–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –≤–Α–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹ βÄ™ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤–Ϋ―É―²―Ä―¨. –ù–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤–Β―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² ―à―É–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–¥–Α―²―¨. –‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ε–Η―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–ΚβÄΠ –≤ ―à–Μ―è–Ω–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Ω–Η―Ä―¹―É. –‰ ―ç―²–Ψ―², –≤ ―à–Μ―è–Ω–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É: ¬Ϊ–£―΄ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―É–Φ–Ψ–Φ –Φ–Β―à–Α–Β―²–Β –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―é―â–Η–Φ¬Μ. –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η –Η ―¹–Κ–Α–Ε–Η: ¬Ϊ–£–Ψ―² –Ζ–Α–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Η―Ö –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨¬Μ. –≠―²–Ψ―² –Φ―É–Ε–Η―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ö–™–ë. –û–Ϋ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ βÄ™ –≤ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―². –û―²―²―É–¥–Α βÄ™ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä―É. –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä βÄ™ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É: ¬Ϊ–Θ –£–Α―¹, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é―² –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨?!¬Μ. –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―à―É―²–Η–Μ, –Α –Β―¹–Μ–Η –Η ―à―É―²–Η–Μ, ―²–Ψ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β.
–ï―¹–Μ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι I, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤–Η―¹–Β–Μ–Η―Ü―É, ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―É–≥: ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Η –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–Α!!! –î–Α –Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―é, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –≤ ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α–Μ–Β, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η –Κ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β –¥–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―è –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Α―Ö. –‰―Ö –¥–Α―΅–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹–Κ―É―é –¥–Α―΅―É, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ βÄ™ ―²–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä –Η–Μ–Η –Β―â―ë, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤―É. –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, ―¹–≤–Η―Ä–Β–Ω–Β–Μ.
–ï―â―ë –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Α–≤–Α. –Γ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –ê –Β―¹–Μ–Η –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η–Μ–Η ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö. –ê –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β βÄ™ –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―è―΅–Κ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ϋ–Α―Ä―É–Ε―É. –ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±―΄―²–Η―è –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ –≤ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è. –®–Β―¹―²―¨―é –Φ–Β―¹―è―Ü–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―¹―²―΄–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―Ä―¹–Β―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é 3 –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι. –ß–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤ 51 –≥–Ψ–¥ –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥―É –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –≤–Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–ë–Β–Ζ–¥―É–Φ–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η―è ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –≠―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –ü―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η–≤ ―ç―²–Ψ –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α.
–Δ–Α–Κ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η –±―΄–Μ–Η: –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ βÄ™ –ë–Ψ―Ä―è –€―É―Ö–Η–Ϋ (–Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Η), –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Η―¹―² –·–Ϋ―΅―É―Ä–Κ–Η–Ϋ.
–ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –Η–Φ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Η–Κ–Α –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η ―ç―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ε–Α–Φ–Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄. –ê –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≤–Η–¥―É ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η―Ü ―²–Β–Μ–Β–Φ–Ψ―¹―²–Α ―¹ –½–Α―Ä―É–±–Β–Ε―¨–Β–Φ: ¬Ϊ–Γ–Β–Κ―¹–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―²¬Μ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Φ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Η –Φ–Β―Ä–Η–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Μ–Η–Κ. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ψ―² ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η¬Μ 20βÄ™―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Κ–Α―΅–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –Ε―ë―¹―²–Κ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Ω―É―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―É¬Μ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –ü–¦ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Ε–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –±―Ä–Α–Κ–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Η –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨–±–Α –Ω–Ψ –Μ―é–±–≤–Η. –·―Ä–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É βÄ™ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ ¬Ϊ–ΓβÄ™46¬Μ –≠.–ê.–™–Β–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹, –¥–Α –Η –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä―É ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤―Ä―É―΅―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ ¬Ϊ–½–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β¬Μ. –ù–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤―Ä―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ 23 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è βÄ™ –≤ –î–Β–Ϋ―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–ΨβÄ™–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ë―Ä–Α–Κ–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Η―à–Β―²―¹―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –Φ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–Β–Ι―³–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α. –‰ ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α–Μ―¹―è. –€–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η ―Ö―É–Ε–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –±―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ―é –™–Β–Ϋ―Ä–Η―Ö―É VIII –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –ü–Α–Ω–Α –†–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ –Β–Φ―É –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Μ―é–±–≤–Η, ―ç―²–Ψ―² –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Β―Ü ―É–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Μ –≤ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹―²–≤–Β ―¹–Α–Φ―É –ü–Α–Ω―¹–Κ―É―é –£–Μ–Α―¹―²―¨, –Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.
–‰–Φ–Β―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Η –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―²―É―¹–Ψ–Φ ¬Ϊ–ß–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α¬Μ.
–ë–Β–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―² ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤¬Μ ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Η ―Ä―É―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ê ―²–Α–Κ, –≥–Μ―è–¥–Η―à―¨, –Η ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –≤―¹―²―Ä–Β–Ω–Β–Ϋ―É–Μ―¹―è. –ö–Α–Κ, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Η–Ζ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ―é –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―΄–Φ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –ù–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Α –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―². ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–Κ?! –ö–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α¬Μ, βÄ™ –±―΄–Μ –Ψ―²–≤–Β―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –‰–Ζ –≤―¹–Β–Ι –Φ–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α.
–£ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―É–¥–Β―² ―Ü–Η―²–Α―²–Α –Η–Ζ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–≥–Ψ–Μ―è –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Κ―²―ë―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ß–Β―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–≤–Α –≤ –Κ/―³ ¬Ϊ–£–Β―¹–Ϋ–Α¬Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β–Φ–Η–Κ–Β ―¹ –¦―é–±–Ψ–≤―¨―é –û―Ä–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι: ¬Ϊ–ü–Ψ–±–Α―¹–Β–Ϋ–Κ–ΗβÄΠ (―É–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–≥–Β)... –ê –≤–Ψ–ΫβÄΠ –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ–Μ–Η –≤–Β–Κ–Α, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―΄ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –½–Β–Φ–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –¥―΄–Φ ―É–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –ê –Ω–Ψ–±–Α―¹–Β–Ϋ–Κ–Η –Ε–Η–≤―É―² –Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é―²―¹―è –Ω–Ψ–Ϋ―΄–Ϋ–Β. –ü–Ψ–±–Α―¹–Β–Ϋ–Κ–ΗβÄΠ –ù–Ψ –Φ–Η―Ä –Ζ–Α–¥―Ä–Β–Φ–Α–Μ –±―΄ –±–Β–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–±–Α―¹–Β–Ϋ–Ψ–Κ. –û–±–Φ–Β–Μ–Β–Μ–Α –±―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ü–Μ–Β―¹–Β–Ϋ―¨―é –Η ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –¥―É―à–Η. –ü–Ψ–±–Α―¹–Β–Ϋ–Κ–ΗβÄΠ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹–Η–Μ–Α –Ψ―² ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–±–Α―¹–Β–Ϋ–Ψ–ΚβÄΠ –¦―é–¥–Η –Ω–Μ–Α―΅―É―² –Η ―¹–Φ–Β―é―²―¹―èβÄΠ –ù–Α –Ϋ–Η―Ö ―É―΅–Α―²―¹―è, –Η–Φ–Η ―É–Κ―Ä–Α―à–Α―é―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ.
|
|
20. –‰–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –Ω–Α–Φ―è―²–Η
| |
–Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–Μ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –£–Β–Ϋ–≥―Ä–Η–Η –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η –≤ –ë―É–¥–Α–Ω–Β―à―²–Β ―É–Ε–Β –≤ –Ξ–ΞI –≤–Β–Κ–Β –Ϋ–Α–≤–Β―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –î–Ϋ―è―Ö, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö, –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α –Φ–Η―¹―²–Η―΅–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β.
1956 –≥–Ψ–¥. –û―¹–Β–Ϋ―¨. –†–Α–Κ―É―à–Κ–Α (–ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α–±―΄―²–Α―è). ¬Ϊ–©―É―΅―¨―è¬Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±―É―Ä–Ϋ–Ψ―²–Β–Κ―É―΅–Β–Ι –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―Ä–Η―²–Β―²–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Ψ―¹―è―² –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥–Η.
–ù–Ψ―΅―¨. –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Α –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―¹ –Ω–Ψ–Ε–Η―²–Κ–Α–Φ–Η –±–Β–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Ψ–Ε–Η―²–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²―É–Α–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è. –™–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ βÄî –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨ –Η –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β, –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –ê –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Α―¹–Κ–Α–Μ–Η –Β―ë ―²―É–¥–Α –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –· –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ¬Ϊ–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α¬Μ. –î–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ-―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η. –î–Α, –Η –Η–Ζ –Ω–Β―¹–Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤―΄–Κ–Η–Ϋ–Β―à―¨: ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –≤–Β–¥―¨ ―¹–≤–Ψ―é –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―ë―¹ –≤ –≤–Β―¹―ë–Μ―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η–Ι –Κ―É–±―Ä–Η–Κ, –Ϋ–Β –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É. –Γ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄¬Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –Η ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–¥–±–Α–≤–Κ–Η –¥–Μ―è –Ω–Μ–Α–≤―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²¬Μ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä―è, ―΅―²–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ (!) ¬Ϊ–±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ–≥–Α–Μ―²–Β–Μ–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨, ¬Ϊ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Η–≥–Ψ–Μ–Κ–Η¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –ê―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ―é–±–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Η –Ω―Ä–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―²―Ä―É–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Ψ.
–Δ–Α–Κ –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-335¬Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Η―¹–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Η –•―É–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä–Β–Ω―ë–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É ―à―É―Ä―É–Ω―É –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥―É―é ―Ä–Α–Φ–Κ―É. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η –≤–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―²―è–Ε–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ψ–≤, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Ζ. –ù–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β¬Μ. –ê –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ―à―É―²–Η–Μ–Η, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β: ¬Ϊ–ü–Ψ–Ω―Ä–Α–≤―¨, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤―¨ –ö–Μ–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α –ï―³―Ä–Β–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Α ―²–Ψ―² –Ω―É―¹―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –≤―¹–Β ―²―è–Ε–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄!¬Μ –≠―²―É ―²–Β–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –‰ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ ―²–Β–Φ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –¥–Ϋ―è–Φ. –£―¹―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α: ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ (―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë –Ω―É―à–Κ–Η), –≤–Ψ–¥―΄, ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è. –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –±–Α–Ζ–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –î–Α, –Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ: –Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―à–Η–Ϋ. –·―â–Η–Κ–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η, ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α–Φ–Η –≤―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²―É―² –Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β, –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ö–Ψ–Μ―â―ë–≤―΄–Β –Φ–Β―à–Κ–Η –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –™―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―è ―Ü–Β–Μ―΄–Β ¬Ϊ―à–Ω–Α―Ü–Η–Η¬Μ (–Φ–Β–Ε―à–Ω–Α–Ϋ–≥–Ψ―É―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ), ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Η–Ϋ–Ψ, ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―ë –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–Φ. –û―²–±–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η.,.. –Η –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―΅–Η, –Η –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ.
–≠―²–Ψ―² ―¹―é–Ε–Β―² –Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η, –Η –Ψ 613 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Β, –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―². –ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ―â―É―΅―¨–Β–Ι¬Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, ¬Ϊ–Γ-335¬Μ, –≥–¥–Β ―è –±―΄–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ―΄ –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η–¥―²–Η –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Η –Ζ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Β―Ö –£–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ-–‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Ψ-–ï–≥–Η–Ω–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö. –ù–Ψ, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Φ―΄ –Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β ―¹ –Β–≥–Η–Ω―²―è–Ϋ–Α–Φ–Η.
–ü–Ψ ―É―²―Ä―É, –Ϋ–Ψ –Β―â―ë –Ω–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –‰ ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ―΅―²―ë―²–Β –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –Γ–®–ê ¬Ϊ–€–Α―Ä–Μ–Η–Ϋ¬Μ –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-335¬Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –±―É―è–Φ–Η –Η ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Β―ë, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Ζ–Α –Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É¬Μ. –≠―²–Ψ―² ¬Ϊ–€–Α―Ä–Μ–Η–Ϋ¬Μ –Ϋ–Α –±―Ä–Β―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ψ―¹–≤–Β―²–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ê –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –ü–¦ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –¦―ë–≤–Α –¦–Η–≤–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ.
–ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ βÄ™ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ βÄ™ –°―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―΄―à–Β–≤ –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ - –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―¹–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄.
–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É―é―²―¹―è –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Θ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ–Β, –Φ―΄ –≤―¹–Β –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Ι ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –ê –Ψ–Ϋ –≤ –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–ù―É, ―΅―²–ΨβÄΠ–Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Β–Μ?¬Μ –î–Α, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β.
–ê –Κ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è? –‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–≤–Ψ–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –Θ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –Γ–Κ―Ä―΄–Ω–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α βÄî –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β.
–ï―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é: –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è βÄ™ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Η―è –±―É–¥―É―â–Η―Ö ―¹―é–Ε–Β―²–Ψ–≤.
–£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Γ–Κ―Ä―΄–Ω–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³–Β –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η βÄ™ ―΅–Β―²–Ψ–Ι –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄―Ö, –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹–Ψ–Φ –Η –û–Κ―¹–Α–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η–Φ –Ϋ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–ΜβÄΠ!!! –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –±–Β–Ζ –≤―΄–Φ―΄―¹–Μ–Α βÄ™ –≤―¹―ë, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β. –ê –≤–Ψ―² ―¹ –Β–≥–Ψ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ: ¬Ϊ–Θ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, ―¹―²–Α―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―Ä–Α–Ζ–Φ¬Μ. –‰ ―ç―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² !!! –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ψ―² –ß–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –¦―É–Κ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―¹–Α–¥–Η–Μ―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ, ―Ö–≤–Α―²–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β: ¬Ϊ–Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Κ–Ψ–Β, ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Β¬Μ βÄΠ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –•–Β–Ϋ―è –î―É–Κ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β, –≤ –Κ–Α―é―²–Β: ¬Ϊ–Δ–Α–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –¥–Β–Μ–Ψ ―à―¨―é―², –Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Β!¬Μ
–£―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Φ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ü–Α–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é ―¹–Β–±–Β ―à―É―²–Η―²―¨: ¬Ϊ–£–Α―à, –ü–Β―²―è, –ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –û―¹–Ψ–±―΄–Φ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥ ―¹–±–Η–Μ–Η―¹―¨,.. –Κ―É–¥–Α –Ε–Β ―É–Β―Ö–Α–Μ –Γ―²–Α―Ä–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―΅, ―¹–Α–Φ –Ζ–Α ―Ä―É–Μ―ë–Φ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ―É–Α–Ζ–Η–Κ–Β¬Μ? –‰ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä–≥–Α–Μ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –£–Μ–Α―¹―²―¨ !!! –ê –Ψ–Ϋ, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―É–Β―Ö–Α–Μ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤ –®―²–Α–± –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Η –≤ –î–Ψ–Φ –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ―É. –£–Β–¥―¨ –ù–Α―à–Α –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―é―â–Β–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –€–Η―Ä–Β. –ê –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β ―²―Ä―É–¥―è―â–Η–Β―¹―è, ―²–Ψ–Ε–Β ―΅–Η―²–Α–Μ–Η.
–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É.
–ß―É―²―¨ –Ϋ–Η–Ε–Β –®―²–Α–±–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι βÄ™ –î–Ψ–Φ –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Ψ–Ι. –‰ –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Α―è –Β―é –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α, ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–≥–Μ–Α–¥–Η–Φ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Η–≤ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β. –ê ―΅―²–Ψ ―è ―΅–Η―²–Α–Μ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ? –‰–Η―΅–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―¹―²–Α–≤–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, ―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ –Η –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ¬Ϊ–≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥―¨―ë¬Μ.
–£–Ψ–Ϋ –Ψ–Ϋ–Ψ, –Κ―É–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Β―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –Ϋ–Α –Γ–Η–Ϋ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –¥–Α –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄. –ü―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Κ―²-–¥–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä―É―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Κ –Α–≤―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β–Κ―²–Ψ―Ä. –ê –Ϋ–Α―΅–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹ ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ε–Β―¹―²―è–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö ―¹―É―Ö–Α―Ä―è–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Η ―Ä–Ε–Α–Ϋ―΄–Φ–Η. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹―É―à–Κ–Η, –Ω–Β―΅–Β–Ϋ―¨–Β, –≥–Α–Μ–Β―²―΄ ―¹–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥¬Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–≥―Ä―΄–Ζ―ë―à―¨. –ë–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–Κ–Μ–Β–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η ―ç―²–Η–Κ–Β―²–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ –≤–Β―¹―É –Ψ―² 4 –¥–Ψ 6 –Κ–≥. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η, –¥–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–¥―¹–Ω–Ψ―Ä―¨–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―Ö –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨. –ö–Α–Κ ―²–Α–±―É―Ä–Β―²―΄ –¥–Μ―è ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―²–Β―Ä―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Β–Ω–Η–Ω–Β–¥–Α, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―è –≤–Η–¥, –Κ–Α–Κ ―²–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Α –Α–Ϋ–Α–Ϋ–Α―¹–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Μ–Η–≤―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η –î–Ε–Β―Ä–Ψ–Φ–Α –ö–Μ–Α–Ω–Κ–Η –î–Ε–Β―Ä–Ψ–Φ–Α –Η–Ζ ¬Ϊ–Δ―Ä–Ψ–Β –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–ΒβÄΠ¬Μ. –ê –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤–Α–Κ―É―É–Φ–Α –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η ¬Ϊ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η¬Μ, ―².–Β. ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, ―²–Ψ –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤―â–Η–Κ, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Ψ–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―Ö, ―²―Ä―è―¹―è –Η―Ö. –‰–Μ–Η –Ω–Ψ –≤–Β―¹―É, –¥–Β―Ä–Ε–Α –Ϋ–Α –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―è―Ö –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²―΄―Ö ―Ä―É–Κ. –≠―²–Η–Κ–Β―²–Ψ–Κ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β―² βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Κ–Μ–Β–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –≤―¹―ë ―¹―²―ë―Ä–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ ―ç―²–Η –±–Α–Ϋ–Κ–Η –≤ –Κ―É―΅―É –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ë―΄–Μ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö―É–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è 5-―²–Η –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ–≥–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α ¬Ϊ–Ε–Α―Ö–Ϋ―É–Μ–Α¬Μ –≤ VIII –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β, –Ψ–±–¥–Β–Μ–Α–≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨.
–û –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ. –ù–Α ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α ¬Ϊ–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è¬Μ ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ω―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, ―²–≤–Β―Ä–¥–Β―è (–Φ–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι know-how) –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α¬Μ, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ϋ–Α 15 ―¹―É―²–Ψ–Κ, –±―É–¥―É―΅–Η –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β. –≠―²―É ¬Ϊ–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ―É―é¬Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η, –Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―è –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –¥–Α –Η ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ –Β―ë ―²–Ψ–Μ―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Ω–Β―Ä–≥–Α–Φ–Β–Ϋ―², –Α –Ϋ–Β –≤ –Ω–Α–Μ–Β―Ü. –‰ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ε―É–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â―ɬΜ. –ê –≤–Ψ―² ¬Ϊ–Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Α―è¬Μ –±―΄–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Β. –ï―â―ë –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β –Β―ë ¬Ϊ―É–Ω–Μ–Β―²–Α–Μ–Η¬Μ –Ζ–Α –Ψ–±–Β ―â―ë–Κ–Η.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ-–¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –ê–Μ–±–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –≠–Ϋ–≤–Β―Ä–Α –Ξ–Ψ–¥–Ε–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –ü–Α―à–Α-–Μ–Η–Φ–Α–Ϋ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –Α–Μ–±–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―É ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ù–Β–Φ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–‰. –ù–Β–Φ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ ¬Ϊ–©-403¬Μ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ 1942 –≥–Ψ–¥―É –•–Β–Ϋ―è –¦–Η–≤―à–Η―Ü (―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι), ―²―Ä―ë―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ.
–ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β―â―ë ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –î–Β―Ö―²―è―Ä―ë–Φ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –Η―Ö ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Φ–Α–Μ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α. –ù–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ –Κ–Ψ–Φ―É-–Μ–Η–±–Ψ ―¹ –Ω―É―¹―²―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η. –î–Α, –Η ―Ö–Α―Ä―΅–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –Α–Μ–±–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –≤–Ζ―è―²―¨ –Η–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄. –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ ―¹ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ: –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è―²―¨ –Μ–Η―à―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² ―É–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–£―΄ –±―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―ç―²–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Α–≤―¨―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η βÄî –≤–Κ―É―¹–Ϋ―è―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Ι–Κ–Α. –ê –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Α―è ―Ä–Ψ–±–Α ―¹ –Ϋ–Α―Ä―É–Κ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ¬Ϊ–±―É―³–Α–Φ–Η¬Μ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Β―Ü ¬Ϊ–Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹―΄, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Κ–Α–Φ–Ζ–Ψ–Μ―΄ ¬Ϊ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Β–Μ―¨–Φ–Ψ–Ε¬Μ. –£―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―¹ –Η–Ζ–±―΄―²–Κ–Ψ–Φ¬Μ.
–· –Ω–Ψ―é –û–¥―É ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹–Β¬Μ. ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Κ–Α―è¬Μ –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹–Α ―¹–Μ–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –¥–Ψ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¨―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Φ―΄–Φ –≤–Κ―É―¹–Ψ–Φ –Η –Α―Ä–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Φ. –ê –Ϋ–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ―² –Ϋ–Β―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β.
–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Ψ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è. –û–¥–Β―¹―¹–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ. –‰ –Ϋ–Β―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Β―ë –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β–Φ. –£ –Γ–Η–Ϋ–≥–Α–Ω―É―Ä–Β –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ß–Β–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι?¬Μ. –û–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η –±―Ä–Α–≤–Α–¥–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ù–Β―², –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι!¬Μ.
1952 –≥–Ψ–¥. –· –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –ï―â―ë –≤ ―Ä―É–Η–Ϋ–Α―Ö –¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Γ–Α–±–Α–Ϋ–Β–Β–≤–Α –Φ–Ψ―¹―²–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Α –î–Β―Ä–Η–±–Α―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―É―Ä–Ϋ―΄ –≤ 20-25 ―à–Α–≥–Α―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι (―¹–Α–Φ –Φ–Β―Ä–Η–Μ). –î–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―³–Α―Ä―²―É–Κ–Α―Ö. –£ ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²―¨ –Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―â–Η–Ι –¥–Ψ–Ε–¥―¨ ―¹–Φ―΄–≤–Α―é―² –Η–Ζ ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤ –≥―Ä―è–Ζ―¨ ―¹ ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä–Ψ–≤. –£ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β –Ε–Η–Μ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ε–Η–Μ―¨―Ü―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –≤ –¥–Ψ–Μ–≥, –Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ζ–Α –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―Ä―΄–±―É. –û–¥–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Η―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―²―²–Ψ–Κ –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Ψ–≤ –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε.
–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨ βÄ™ –û–¥–Β―¹―¹–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β―². –ù–Ψ ―²–Β―Ö –±―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤, –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η―Ö, ¬Ϊ―¹ –Ω―΄–Μ―É, ―¹ –Ε–Α―Ä―É¬Μ, ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ϋ–Α–¥―²―Ä–Β―¹–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Η–Ζ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ –Η –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―à–Ω–Α–≥–Α―², –Η―Ö –Ϋ–Β―². –ê –Ε–Α–Μ―¨! –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –ö–Α―Ä–Μ–Ψ –€–Α―Ä–Κ―¹–Α, –≤ –Β―ë –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―é–≤–Β–Μ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Η –±–Η–Ε―É―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Μ–Ψ–≤–Κ–Η. –£ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ö–Ϋ–Η –Ζ–Α ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ω–Μ–Α―²―É. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –Ω–Μ–Α―²–Α –Ζ–Α –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–¥―΄ –Η ―è―¹–Μ–Η. –£ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α―Ö –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η.
–™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Β. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ―É–Φ–Μ―è―²―¨―¹―è, ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η–≤ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α βÄ™ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è, –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η, –¥–Η–≤―É –¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α: ¬Ϊ–Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ-–Μ–Η―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–≥–Α¬Μ. –ù–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η ―ç―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Β―¹―²―¨ –Η–Φ, –¥–Μ―è ―²–Β―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö.
–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―² –ê.–î. –Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―²–Β―Ä–Φ–Ψ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Φ–±―΄, –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α―Ö –Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Κ ―ç―²―É –±–Ψ–Φ–±―É –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –¥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α, ―².–Β. –Β―ë –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨. –û–Ϋ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ: –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹ ―²–Β―Ä–Φ–Ψ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η –±―¨―é―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Κ―Ä–Ψ–≤–Μ–Η–≤–Α―é―². –ù–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è: ¬Ϊ–Θ –£–Α―¹, –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅, –Μ―é–¥–Ψ–Β–¥―¹–Κ–Η–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄¬Μ. –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Η–Ζ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Α. –ù–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ –±―΄–ΜβÄΠ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α ―¹ ―²–Β―Ä–Φ–Ψ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι- 40 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Α―²–Β–Φ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Μ–Η –¥–Ψ 20 ―¹ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α-–¥–≤–Α –Φ–Β―²―Ä–Α. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Β–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ―Ä–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―².
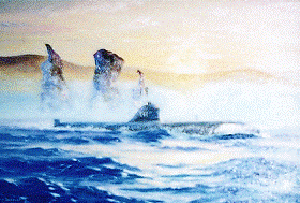 –ù–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η ―¹ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η,βÄî –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è 627 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―². –‰ ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –±―΄–Μ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ.
–ù–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η ―¹ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η,βÄî –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è 627 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―². –‰ ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –±―΄–Μ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ.
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è ―΅–Η―¹―²–Α―è, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α. –Ξ–Ψ―²–Η―²–Β, –≤–Β―Ä―¨―²–Β, ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, –Ϋ–Β―². –ê –Η–Φ―è –ê.–î.–Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Α ―è –Ω―Ä–Η–≤―ë–Μ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ –Ψ–±―â–Β–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–Φ, –Ψ –ö–û–ù–£–ï–†–™–ï–ù–Π–‰–‰, ―².–Β. –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –¥–≤―É―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―²―¹―è –Η―Ö –Μ―É―΅―à–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α.
–ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö ―¹ –Η―Ö ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²–Η―à–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―è―¹–Μ―è―Ö –Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–¥–Α―Ö.
–û–Ω–Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ–Η―Ö –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ –Κ–≤–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―², –Φ–Ψ–≥―É―² –Φ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η ―²―Ä–Α–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β–Β, –Η ―¹–Α―Ö–Α―Ä ―¹–Μ–Α―â–Β, –ΗβÄΠ –Ω―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α―²–Η–≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –≥–Ϋ―É―â–Η–Β―¹―è.
–ö―¹―²–Α―²–Η, –Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α―²–Η–≤–Α―Ö. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―²–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α –Η –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ü–Ψ ―¹―É–±–±–Ψ―²–Α–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Η –≤ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Α, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η βÄî ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –ê –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ βÄ™ ―ç―²–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι: ―΅–Η―¹―²–Κ–Α, –≥–Μ–Α–Ε–Κ–Α –±―Ä―é–Κ, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²―΄―Ö –Ϋ–Α –Κ–Μ–Η–Ϋ―¨―è―Ö –¥–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Μ―ë―à–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Η–Ϋ―΄, ―¹―²―Ä–Η–Ε–Κ–Α, –±―Ä–Η―²―¨―ë, –Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±–Μ―è―Ö–Η –Η ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Κ¬Μ (―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ―²–Η–Ϋ–Κ–Η, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Η―Ö –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ¬Ϊ–≥–Α–¥–Ψ–≤¬Μ). –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹―ë –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η, –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤. –î–Α, –Β―â―ë –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α–Μ–Α―à–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Ι –≤–Η–¥. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Ω–Α–Μ–Α―à–Α–Φ–Η, ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ–Η –Α–±–Ψ―Ä–¥–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Α–±–Μ―è–Φ–Η, ―ç―³–Β―¹ –Η―Ö ―¹ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Η―¹―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―²–Α–Κ―² ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Β –≤―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ―΅–Κ―É. –ö–Α–Κ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η –°―Ä―΄ –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤–Α:
–ü–Α–Ω–Α, ―è ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι
–Ξ–Ψ–Ε―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―¹ –Ω–Α–Μ–Α―à–Ψ–Ι.
–‰–Μ–Η
–€―΄ –Η–¥–Β–Φ, ―΅–Β–Κ–Α–Ϋ―è –Ϋ–Ψ–Ε–Κ―É
–ü–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Β,
–£–Η–¥ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι
–€―΄ –Φ–Α―Ö–Α–Μ–Η –Ω–Α–Μ–Α―à–Ψ–Ι.
–· –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Η –¥―Ä–Α–Κ, ―ç―²–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£ ―²–Β–Α―²―Ä–Α―Ö, –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Κ–Β –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Ω–Α–Μ–Α―à ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –≥–Α―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–±–Β –Ϋ–Α –≤–Β―à–Α–Μ–Κ―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ 1953 –≥–Ψ–¥–Α. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹ –Ω–Α–Μ–Α―à–Α–Φ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α. –½–Α―²–Β–Φ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –Η―Ö –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Μ–Η―à―¨ –Ζ–Α –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –Η –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―è–Φ–Η.
–ü–Ψ–¥–Ψ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ψ―²―É―²―é–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ¬Ϊ―¹ –Η–≥–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Η¬Μ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α, –Ψ–Ϋ–Α ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Α –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ. –≠―²–Α –Ε–Β –Ω―è―²–Ϋ–Η―¹―²–Α―è, –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è –¥–Μ―è ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Μ–Η ―²–Α–Φ –¥–Μ―è –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –Η ―¹ –Α–Κ―¹–Β–Μ―¨–±–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―é―² ―Ä–Β–±―è―²–Α –Η–Ζ ¬Ϊ–¦―é–±–Β¬Μ - –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–Α―²–Α―¹¬Μ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –≤―΄–Μ–Β–Ζ―à–Β–≥–Ψ –Η ―²―Ä―é–Φ–Α (–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä―é–Φ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è), ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―ë, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Η –Φ–Α―¹–Μ–Β, –Η –≤ ―²–Α–≤–Ψ―²–Β, –Ϋ–Ψ ―¹ –Α–Κ―¹–Β–Μ―¨–±–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η.
–‰ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–Ε―É –Κ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É. –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α ―Ä–Ψ―²―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –Ω―Ä–Η–¥–Η―Ä―΅–Η–≤–Ψ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―³–Α–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Κ ―¹–Β–±–Β. –£―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―à–Α–≥–Ψ–Φ, –Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è –Ω–Α–Μ–Α―à, –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―Ä―É―΅–Α–Β―² –Β–Φ―É ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É –ΗβÄΠ –Ω―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α―²–Η–≤ (―²–Α–Κ –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι!), –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α―è –Η―Ö –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η ―É–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ―΄–Φ–Η¬Μ, –±–Β–Ζ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ.
–‰―²–Α–Κ, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Ψ―Ä―É–Ε–Η–Η (―è –Η–Φ–Β―é –≤–≤–Η–¥―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Α–Μ–Α―à–Η) –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―²–Β–Κ―É―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―é―² ―¹―²–Β–Ϋ―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.
 –ü–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―ë–Φ―¹―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α–Φ, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä―΄, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²―΄, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η –Μ–Β―² –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –€–Β―¹―²–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Α βÄ™ –ü–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α ―É–Μ. –ü–Β–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–ê.–Λ–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Α. –€–Ψ–Ε–Β―² –Β―ë –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Δ–û–£–£–€–Θ. –ö–Α―³–Β –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –€–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –≤―΄–≤–Β―¹–Κ–Η: ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–½–Α–Κ―É―¹–Ψ―΅–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–ü–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è¬Μ. –†–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –Ω–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Η. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Γ–≤–Β―²–Κ–Α –Δ–Η―²–Ψ–≤ βÄ™ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –≤―¹–Β–Φ–Η, –Ϋ–Β –Α―³–Η―à–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Γ–≤–Β―²–Κ–Α,- –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―É―Ä―¹–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ê–≥–Α–±–Β–Κ¬Μ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Α, –Α ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–ΨβÄΠ, ―ç―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Α–Κ –≤―΄–Ω―¨–Β–Φ –Ε–Β –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β!¬Μ –î―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η, –Ζ–≤―è–Κ–Ϋ―É–≤ –≥―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹ –Ω–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―è–Φ–Η –Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ―è–Ε –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Γ–Α–Φ–Α –ü–Β–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―É–Ω–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –Δ–Α–Κ –≥―É―Ä―¨–±–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è. –ë–Μ–Α–≥–Ψ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨, –Α –≤ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ ¬Ϊ–±–Α–±―¨–Β–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ¬Μ - ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ!!! –û –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä―΄ –Ψ―΅–Β–Ι –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è¬Μ - ―¹–Α–Φ ―³–Α–Κ―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹–Α–Φ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è: –¥–Β―²–Η –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α.
–ü–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―ë–Φ―¹―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α–Φ, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä―΄, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²―΄, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η –Μ–Β―² –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –€–Β―¹―²–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Α βÄ™ –ü–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α ―É–Μ. –ü–Β–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–ê.–Λ–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Α. –€–Ψ–Ε–Β―² –Β―ë –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Δ–û–£–£–€–Θ. –ö–Α―³–Β –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –€–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –≤―΄–≤–Β―¹–Κ–Η: ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–½–Α–Κ―É―¹–Ψ―΅–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–ü–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è¬Μ. –†–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –Ω–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Η. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Γ–≤–Β―²–Κ–Α –Δ–Η―²–Ψ–≤ βÄ™ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –≤―¹–Β–Φ–Η, –Ϋ–Β –Α―³–Η―à–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Γ–≤–Β―²–Κ–Α,- –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―É―Ä―¹–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ê–≥–Α–±–Β–Κ¬Μ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Α, –Α ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–ΨβÄΠ, ―ç―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Α–Κ –≤―΄–Ω―¨–Β–Φ –Ε–Β –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β!¬Μ –î―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η, –Ζ–≤―è–Κ–Ϋ―É–≤ –≥―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹ –Ω–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―è–Φ–Η –Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ―è–Ε –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Γ–Α–Φ–Α –ü–Β–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―É–Ω–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –Δ–Α–Κ –≥―É―Ä―¨–±–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è. –ë–Μ–Α–≥–Ψ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨, –Α –≤ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ ¬Ϊ–±–Α–±―¨–Β–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ¬Μ - ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ!!! –û –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä―΄ –Ψ―΅–Β–Ι –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è¬Μ - ―¹–Α–Φ ―³–Α–Κ―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹–Α–Φ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è: –¥–Β―²–Η –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α.
–ü–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―ë–Φ―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ö–Μ–Η–Φ–Α―² –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Α–Μ―¨–Φ–Η―Ä―΄ –Η –Β―ë –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―¹ –Φ–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―â–Β–Φ –¥–Ψ–Ε–¥―ë–Φ –Η ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²―¨―é –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―² –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Κ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É, –Κ–Α–Κ ―É ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―Ü–Β–≤. –Θ –Ϋ–Η―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ –€―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β, –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Β, –Η–Μ–Η –Β―â―ë –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Φ―É–Ζ–Β–Β, –Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι –€―É–Ζ–Β–Ι. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―²―¹―è –≤ –¥–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Η, –±―É–¥―É―â–Β–Ι –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―΄ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Β ―΅–Α–Β–Ω–Η―²–Η–Β.
–½–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―΅–Α–Β–Ω–Η―²–Η―è ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―à–Β―Ä–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α―²–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅―ë―²–Β, –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Η, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―è―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Φ, –¥–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –¥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β ―ç―²―É –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Β―ë ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Γ.-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Α ―΅–Α–Β–Ω–Η―²–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Η ―¹ –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Η ―¹ –Ψ–≥―É―Ä―΅–Η–Κ–Ψ–Φ. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β.
–Γ–Β―Ä–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. –£–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Β ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΄ –≤ –Α–Ε―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Μ―¨―Ö–Η–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, ―Ö―Ä―É―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α ―¹–Ψ ―â–Η–Ω―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Η–Ϋ―Ü–Β―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Α; –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α―Ä―³–Ψ―Ä: –≤–Η―²–Η–Β–≤–Α―²―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ ―¹ –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ―É–Κ–Μ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Β–Ω–Μ–Α, ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –¥–Μ―è ―¹–Μ–Η–≤–Ψ–Κ, –Φ–Α―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―Ü–Α, –±–Μ―é–¥–Ψ ―¹ –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―É–¥–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è ―è–±–Μ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Κ–Μ―é–Κ–≤–Ψ–Ι –Ω–Η―Ä–Ψ–≥–Α, –≤–Α–Ζ–Ψ―΅–Κ–Η –Η ―Ä–Ψ–Ζ–Β―²–Κ–Η –¥–Μ―è –≤–Α―Ä–Β–Ϋ―¨―è –Η –Φ―ë–¥–Α; –Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Η –¥–Μ―è ―Ö–Μ–Β–±–Α, –Ω–Β―΅–Β–Ϋ―¨―è, ―¹―É―à–Β–Κ –Η –Φ–Α―Ä―Ü–Η–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ (―è ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ε –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Β –Η –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ), ―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –¥–Μ―è ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Μ–Ψ–Ε–Β―΅–Κ–Η –¥–Μ―è ―Ä–Ψ–Ζ–Β―²–Ψ–Κ; ―¹–Α–Μ―³–Β―²–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä –Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Α―Ä –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–Κ–Β, ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –ü–Α–Μ–Β―Ö―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Η–Μ–Β.
–ü–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Β―â―ë –Ω–Ψ ―¹.-–Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É –Ζ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ ―΅–Α–Β–Φ ―¹–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―΅–Α–¥–Α–Φ–Η –Η –¥–Ψ–Φ–Ψ―΅–Α–¥―Ü–Α–Φ–Η.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ-―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α ―΅–Α―è –Ϋ–Α―à –±―É–¥―É―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Β―Ü, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–≤―à–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Β ―¹ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –ü–Β―Ä–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ß–Α–Β–Ω–Η―²–Η–Β –≤ –€―΄―²–Η―â–Α―Ö¬Μ, –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤ –≤―¹―é –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ―²–Α –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Φ –≤―΄―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Η–Ζ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η―Ö ―à―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²–Ψ–Κ –Η ―¹―²–Α–Μ –Ψ–±―²–Η―Ä–Α―²―¨ ―¹―²―Ä―É–Ι–Κ–Η –Ω–Ψ―²–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Μ–Ψ―¹–Ϋ―è―â–Η–Φ―¹―è –Μ–Η―Ü–Β. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö, ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β (–û ―²―΄―¹―è―΅–Α ―΅–Β―Ä―²–Β–Ι!!!) –≤―΄–Ω–Α–≤―à–Β–Β –Η–Ζ –Ω–Μ–Α―²–Κ–Α ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―ë―¹–Η–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –≤―΄–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Η―Ä–Α–Ε–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β–Ι ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä―Ü–Η–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–¥–Η–Μ–Μ–Η–Η. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―Ä―É–≥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β ―¹–±–Α–≤–Μ―è―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η. –£–Ζ–Ψ―Ä―΄ ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Κ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Φ―É, –Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –Η―Ö ―¹–Η–Ϋ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Α–Κ―² –≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è.
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –±―΄–Μ–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Α –Μ―é–±―è―â–Η–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –Α –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²βÄΠ –û–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ―É, –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ―É ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ―É –•–≤–Α–Ϋ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É: ¬Ϊ–û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ ―²―Ä–Β–±―É–Β―²βÄΠ¬Μ –· –±―΄ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ: ―¹ ―²–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η –Κ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –Α –Ϋ–Β –Κ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Α–Φ –Ω–Ψ–¥ –¦―É–Ϋ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―Ü–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β. –ê ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –£―΄ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–± –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ψ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–ΦβÄΠ –Ϋ–Α –Φ–Η―¹―²–Η―΅–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –±―É–¥–Α–Ω–Β―à―²―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²―΄, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―²–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–Δ-34¬Μ. –ö–Α–Κ –Ϋ–Η –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ!!! –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η ―³–Α–±―Ä–Η–Κ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ βÄ™ –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―²―¨ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Β―ë –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η ―¹–Ψ―à–Μ–Α ―¹ –Ω―¨–Β–¥–Β―¹―²–Α–Μ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é.
–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –±―΄ –Ϋ–Α–Φ, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Φ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –≤ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è―Ö –•―É–Μ―¨ –£–Β―Ä–Ϋ–Α –Η –ê–Ι–Ζ–Β–Κ–Α –ê–Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –ü–¦ ¬Ϊ–€-351¬Μ –Η–Ζ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ–Α –™–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –™–Α–≤–Α–Ϋ―¨. –ë―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Κ–Μ–Η―΅ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ βÄî –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤―¹–Β –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β, ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Κ–Η¬Μ. –£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄, –Ω–Α–Φ―è―²―É―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–¥―Ä―΄ ―Ä–Β―à–Α―é―² –≤―¹―ë, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤―¹–Β ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –ΗβÄΠ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è.
–ï―¹–Μ–Η –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Β ―Ä–Η–Φ–Μ―è–Ϋ–Β, –Ψ ―΅―ë–Φ –±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―²–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ–Β–≥, ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Η–Ϋ–Ψ–ΒβÄΠ –· –Ψ –î–Ψ–Φ–Β –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ ―É –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Κ–Α (–≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η), –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –®―²–Α–± –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Β –Η –Ψ –Β―ë –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β. –€–Ψ–Ι ―¹―²–Η–Μ―¨ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Κ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É (–Φ–Ϋ–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä) –Η –Φ–Ψ―ë –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ βÄî ―ç―²–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹―É–¥–Ψ–≤, –≥–¥–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α―Ö. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―è ―ç―²―É –≥–Μ–Α–≤―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β: –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ –Β―ë –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²–Β, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Θ–€–û–ü–û–€–†–ê–ß–‰–Δ–ï–¦–§–ù–û–ô ―³–Η–≥―É―Ä–Ψ–Ι. –ï―¹–Μ–Η ―²–Α–Μ–Η―é –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –¥–≤―É–Φ―è –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―è–Φ–Η ―Ä―É–Κ, ―²–Ψ –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö–Ψ–Φ –≤―¹―ë ―²–Β―Ö –Ε–Β ―Ä―É–Κ.
–£–Ψ–Ϋ –Κ―É–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Α–≤–Β–Β–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β–Φ–Η –£–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ-–‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Ψ-–ï–≥–Η–Ω–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η.
|
|
21. –‰–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –Ω–Α–Φ―è―²–Η ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Φ―É ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η
| |
(–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤―¹―ë –Η–Ζ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Α–Φ―è―²–Η ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Φ―É ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η)
–ö–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ ―¹―²―É―΅–Η―²―¹―è –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ?!
–ï―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η¬Μ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄–Ω–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–¥―É. –‰ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –ΔV, –¥–Β–Μ–Α–Μ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ü―É―²–Η–Ϋ, –Η –Ϋ–Β –Η–Ζ –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η, –Α –Η–Ζ –Ω–Μ–Α―³–Ψ–Ϋ–Α, ―¹–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω–Ψ –Η―¹–Ω–Η―²–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ―É–≤–Α–Μ–¥―É ―¹ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―¹–Κ–Η. –‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι―à–Β –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨.
–‰ –Β―â―ë, –Κ ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ω―Ä–Η –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –±―΄–Μ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η―é, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Β.
–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ βÄ™ –Ζ–Α–Μ–Η―Ö–≤–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –≤ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Β ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Κ–Α―Ö, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–ΨβÄΠ (–Ω–Ψ―è―¹–Α) –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹–Β–Μ–Β, –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β: ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Α –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ê ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹: –¥–Ψ–Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Β–Ι –±–Ψ–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ ―΅―ë―Ä―² –Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Α, ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹―ë –Φ–Β―Ä―è–Β―²―¹―è –±―É―Ö–≥–Α–Μ―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι!!!
–ù–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ―Ä–Α–≤―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ –Η –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η–Ζ ―à–Κ–Ψ–Μ, –Η–Ζ –Φ–Β―¹―² –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Ω–Β―Ä―²―É–Α―Ä–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ: ¬ΪβÄΠ–Φ–Β–Μ–Κ–Η–Ι ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ–Β―΅–Κ–Β ―΅–Η―¹―²–Η–Μ –Κ―Ä–Α–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ¬Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ϋ–Β―¹―ë―²―¹―è –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―è―â–Η–Κ–Ψ–≤.
–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä―è–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β –≤ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α―Ö –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α―²―¨, –Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―²―Ü–Α–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²―¹―²–≤–Α, –≤–Ζ―è–≤ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Μ–Α―² –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ:
¬Ϊ–ö―Ä–Ψ―à–Κ–Α ―¹―΄–Ϋ –Κ –Ψ―²―Ü―É –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ
–‰ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –ö―Ä–Ψ―Ö–Α:
¬Ϊ–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ
–‰ ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ?¬Μ
–‰ –Β―â―ë:
–£―΄―Ä–Α―¹―²–Η―² –Η–Ζ ―¹―΄–Ϋ–Α ―¹–≤–Η–Ϋ,
–ï―¹–Μ–Η ―¹―΄–Ϋ ―¹–≤–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ψ–Κ.
–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ζ–Α ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Κ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²―Ü–Α ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –ü–Ψ―ç―²―É –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ê –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²―Ä–Η―É–Φ―³–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é. –‰ ―΅–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É –Η –Ω–Ψ –≥–Α–Φ–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²–Ψ–Ε–Β, –¥–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Η (?!) ¬Ϊ―²―Ä–Η―É–Φ―³–Α―²–Ψ―Ä―΄¬Μ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –≠―²–Ψ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι:
–Θ–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ζ–Α–≤―Ü–Β–≤
–ë―Ä–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ –ù–Α―à–Β–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β –Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥.
–ù–Η–Κ–Α–Κ–Η–Β ―²–Α―²–Α―Ä–Ψ-–Φ–Ψ–Ϋ–≥–Ψ–Μ―΄, ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―΄ ―¹ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ξ―Ä―É―â―ë–≤―΄–Φ (–™–Ψ―Ä–±–Α―΅–Β–≤ –≤–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α!!!) –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–¥–Α –†―É―¹–Η, –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Γ–Ψ―é–Ζ―É –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –≤―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Η–≤―à–Α―è ―¹–Β–±―è ¬Ϊ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨¬Μ, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ βÄ™ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄–Κ–Ψ―Ä–Φ–Α―à–Η. –Δ–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨: ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²―²–≤–Ψ―é –Φ–ΑβÄΠ¬Μ –≠―²–Ψ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ¬Ϊ–≠―Ö–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄¬Μ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―², ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ: ¬Ϊ–Δ–≤–Α―Ä–Η - ―ç―²–Ψ ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ, ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–± ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Ε–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ö–Ψ―²―è―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η―²―¨ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η―é¬Μ.
–½–±–Η–≥–Ϋ–Β–≤ –ë–Ε–Β–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ, –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Β –ü–†–û, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―² –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Ϋ―É―²―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö –Μ–Β–Ε–Η―² $500 –Φ–Μ―Ä–¥., –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Η―²–Β. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ: –≤―΄ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―²–Β―¹―¨, ―΅―¨―è ―ç―²–Ψ ―ç–Μ–Η―²–Α βÄ™ –≤–Α―à–Α –Η–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―à–Α. –≠―²–Α ―ç–Μ–Η―²–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―é ―¹―É–¥―¨–±―É ―¹ ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –Θ –Ϋ–Η―Ö –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―É–Ε–Β ―²–Α–Φ, –¥–Β―²–Η ―É–Ε–Β ―²–Α–Φ...
–ö –Φ–Β―¹―²―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –£.–£. –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ:
–ï―à―¨ –Α–Ϋ–Α–Ϋ–Α―¹―΄,
―Ä―è–±―΅–Η–Κ–Η –Ε―É–Ι!
–î–Β–Ϋ―¨ ―²–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι
–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―², –±―É―Ä–Ε―É–Ι!
–ù–Η –Ψ―³―³―à–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ψ–Ϋ―΄, –Ϋ–Η –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β street`―΄ –Ϋ–Β ―É–±–Β―Ä–Β–≥―É―² –Η―Ö –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Α.
–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤―²–Ψ―Ä–Η―² –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Π–≤–Β―²–Α–Β–≤–Α:
–ï―¹–Μ–Η –¥―É―à–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Ψ–Ι,
–ß―²–Ψ –Β–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Φ―΄, ―΅―²–Ψ –Β–Ι ―Ö–Α―²―΄,
–ß―²–Ψ –ß–Η–Ϋ–≥–Η―¹ –Ξ–Α–Ϋ –Β–Ι –Η ―΅―²–Ψ –û―Ä–¥–Α.
–î–≤–Α –Ϋ–Α –€–Η―Ä―É ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―Ä–Α–≥–Α βÄ™
–î–≤–Α –±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Α –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Η―²―΄―Ö βÄ™
–™–Ψ–Μ–Ψ–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―΄―²–Ψ―¹―²―¨ ―¹―΄―²―΄―Ö.
–ë–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Κ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β –Π–≤–Β―²–Α–Β–≤–Ψ–Ι –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –Γ–®–ê –û–±–Α–Φ–Α:
¬Ϊ–≠―²–Η –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄–Β ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―²―΄!¬Μ
–ü–Ψ–¥―΄―²–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≠–Φ–Φ–Α–Ϋ―é―ç–Μ–Β–Φ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Ψ France Presse. –‰–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Η–¥–Β―Ä –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –≤ –ï–Μ–Η―¹–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η.
¬Ϊ–· ―¹―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Φ–Η―²–Ψ–Φ G7 –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Α–Μ–Η―Ü–Η–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄¬Μ, βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²―É ―²–Β–Φ―É –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Φ–Η―²–Β G7, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨―¹―è 24βÄ™26 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –≤ –ë–Η–Α―Ä―Ä–Η―Ü–Β.
–€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–Ζ–Α―Ä–Ε–Α–≤–Β–Μ–Α¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η. ¬Ϊ–ê ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η ―¹–Ψ―à–Β–Μ ―¹ ―É–Φ–Α βÄ™ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ ―²–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α, ―É―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η¬Μ, βÄ™ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ.
–€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η, –Ψ–Ϋ –≤ 2008βÄ™2011 –≥–≥. ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä–Ψ–Φ, –Α ―¹ 2011 –Ω–Ψ 2012 –≥. –±―΄–Μ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Φ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –ë–Α–Ϋ–Κ–Α –†–Ψ―²―à–Η–Μ―¨–¥–Α. –Γ 2014 –Ω–Ψ 2016 –≥. –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―² –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ ―΅―ë–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―².
|
|
22. –°―Ä–Α –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤
| |
–ï―â―ë ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –¥―Ä―É–≥–Β –°―Ä–Β –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤–Β, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α ―à–Κ–Β–Ϋ―²–Β–Μ–Β¬Μ –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ–Β–Ι: ¬Ϊ–£―¹―ë ―¹–Η–Ϋ–Β–Β―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–ΒβÄΠ¬Μ. –Γ–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² βÄ™ –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ. –î–Β–≤―è―²―¨ –Μ–Β―² –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β: –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Η–Η¬Μ βÄ™ 3 –≥–Ψ–¥–Α, 4 βÄ™ –Δ–û–£–£–€–Θ, –≥–Ψ–¥ –¥–Ψ―É―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ 51 –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Δ–û–Λ –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―²―É―¹–Β –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö―è―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ-–Κ–Ψ–Ι–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –≥–Ψ–¥ βÄ™ –£–û–¦–Γ–û–ö (–£―΄―¹―à–Η–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –ö–Μ–Α―¹―¹―΄). –½–Α―²–Β–Φ ―è –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¹―è –≤ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α –°―Ä–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-286¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –¥–Ψ –ö–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ.
 –Θ–Ε–Β –≤ ―à―²–Α–±–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –î–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Η ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η 245-–≥–Ψ –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –£–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ –Η –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä. –ï―¹–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β, –Ψ–Ϋ ―¹ –≥–Η―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α βÄ™ –Ψ–Ϋ –≤ –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ–Β –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Β–Ω–Β―Ä―²―É–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ψ–Κ―É–¥–Ε–Α–≤ –Η –≤―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η―Ö.
–Θ–Ε–Β –≤ ―à―²–Α–±–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –î–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Η ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η 245-–≥–Ψ –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –£–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ –Η –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä. –ï―¹–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β, –Ψ–Ϋ ―¹ –≥–Η―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α βÄ™ –Ψ–Ϋ –≤ –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ–Β –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Β–Ω–Β―Ä―²―É–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ψ–Κ―É–¥–Ε–Α–≤ –Η –≤―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η―Ö.
–€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι (–¥–Α, –±―΄–Μ–Α –≤ –€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö: –™–Ψ-―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ–Η) ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –°―Ä–Α, –Η–≥―Ä–Α–Μ –Φ–Α―Ä―à –ö–Α―Ä–Β–Μ–Α –£–Μ–Α―Ö–Α ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Μ―¨-–±–Ψ–≥–Η¬Μ, –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Η–Ι ―Ü–Η―Ä–Κ –Β–Φ―É ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β―¹–Κ–Α–Μ, –Α –≤ –‰–Ϋ–¥–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –±–Ψ–Κ–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β (–Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α) ―¹ –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Α–Κ―²―ë―Ä–Ψ–Φ –Η ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Ψ–Φ –†–Α–¥–Ε–Β–Φ –ö–Α–Ω―É―Ä–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –°―Ä–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹―²–≤–Ψ¬Μ –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-286¬Μ, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥, ―¹–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η –Η ―²–Α–Κ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Β–≥–Ψ –¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.
 –Θ–Ε–Β –≤ –®–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β (–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è), –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι –€–Η―à–Β–Μ―è –¦–Β–≥―Ä–Α–Ϋ–Α, (–û―²–Κ―Ä–Ψ–Ι―²–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β!)
–Ϋ–Α 44-–Φ (2005 –≥.) –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Ϋ―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η, –Φ–Ψ―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Β–Μ–Α –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―é, –Α –Φ―É–Ϋ–Η―Ü–Η–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Μ―¨-–±–Ψ–≥–Η¬Μ –Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ―É ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―é –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η.
–Θ–Ε–Β –≤ –®–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β (–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è), –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι –€–Η―à–Β–Μ―è –¦–Β–≥―Ä–Α–Ϋ–Α, (–û―²–Κ―Ä–Ψ–Ι―²–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β!)
–Ϋ–Α 44-–Φ (2005 –≥.) –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Ϋ―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η, –Φ–Ψ―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Β–Μ–Α –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―é, –Α –Φ―É–Ϋ–Η―Ü–Η–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Μ―¨-–±–Ψ–≥–Η¬Μ –Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ―É ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―é –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η.
–ù–Α –±–Β–Μ–Ψ–Φ –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –‰–€–· –≤ –≤–Β―¹―²–Η–±―é–Μ–Β –£―΄―¹―à–Η―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²–Β–Μ―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α. –ï―¹―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ –Ϋ―ë–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –‰ –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ! –î–Α, –Β―â―ë. –ß–Α―¹―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –°―Ä–Α: ¬Ϊ–£–Ψ―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ...¬Μ βÄ™ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Α―²―Ä –±―É–¥―É―â–Η―Ö, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –û–Ϋ –Η –≤–Η―Ä―à–Η ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β ―ç―²–Η―Ö:
–Γ–Η–¥–Β–Μ–Α –Ω―²–Η―΅–Κ–Α –Ϋ–Α –Μ―É–≥―É
–ü–Ψ–¥–Κ―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α
–Γ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Α –Ω―²–Η―΅–Κ―É –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≥―É:
¬Ϊ–ü―²–Η―΅–Κ–Α, –±―É–¥―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α!¬Μ
–‰ –Β―â―ë:
–ü–Α–Ω–Α, ―è ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι,
–Ξ–Ψ–Ε―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―¹ –Ω–Α–Μ–Α―à–Ψ–Ι.
–£–Η–¥ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι
–€―΄ –Φ–Α―Ö–Α–Μ–Η –Ω–Α–Μ–Α―à–Ψ–Ι.
 –ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Μ–Α―à –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ: –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ë–Α―Ä–Α–±–Α―à–Α –Η –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Η –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Μ–Η―Ö–Ψ –Ψ―²–Ω–Μ―è―¹―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β–Ζ–≥–Η–Ϋ–Κ―É.
–ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Μ–Α―à –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ: –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ë–Α―Ä–Α–±–Α―à–Α –Η –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Η –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Μ–Η―Ö–Ψ –Ψ―²–Ω–Μ―è―¹―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β–Ζ–≥–Η–Ϋ–Κ―É.
–û! –ê –Κ–Α–Κ –°―Ä–Α –Η–Φ–Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ, –¥–Β―Ä–Ε–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö ―³–Η–±―Ä–Ψ–≤―΄–Ι ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΅–Η–Κ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α: –Ϋ–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ε–Β –Ψ–Ϋ –¥–Ψ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ―É―Ä―¹ –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β.
–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –°―Ä–Β. –€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ö–Ψ–Μ―΄–Φ–Β, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι, –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ψ–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β–≤–Β―Ü βÄ™ –£–Α–¥–Η–Φ –ö–Ψ–Ζ–Η–Ϋ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –±―΄–≤–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―²―΄–Φ–Η –Β–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –ê –Ψ–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α–Φ–Η ―¹–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Η–Φ –Η―Ö ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –±―É–¥–Ϋ–Η. –ö–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –Φ–Ψ–≥―É―² –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –¥―É―à―É ―¹–Μ–Ψ–≤–Α: ¬ΪβÄΠ–≤–Β―¹–Β–Μ―¨―è ―΅–Α―¹ –Η –±–Ψ–Μ―¨ ―Ä–Α–Ζ–Μ―É–Κ–ΗβÄΠ¬Μ. –ù–Β–¥–Β–Μ―è–Φ–Η, –Α ―²–Ψ –Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨ ―Ä–Α–Ζ–Μ―É–Κ–Η –≤–Ψ ―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―² –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä―è–Β―²―¹―è. –‰ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η ―ç―²―É –±–Ψ–Μ―¨ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –£–Α–¥–Η–Φ –ö–Ψ–Ζ–Η–Ϋ.
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α TV –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –‰–Ψ―¹–Η―³–Α –ö–Ψ–±–Ζ–Ψ–Ϋ–Α ―¹ –£–Α–¥–Η–Φ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ζ–Η–Ϋ―΄–Φ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α. –‰ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ? –ù–Α –Μ–Α―Ü–Κ–Α–Ϋ–Β –Ω–Η–¥–Ε–Α–Κ–Α –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –½–Ϋ–Α–Κ ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ. –≠―²–Ψ –°―Ä–Α –¦–Η―²–≤–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Β–Φ―É –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.
–î–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –Ψ –°―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―É–Μ―΄–±―΅–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ. –û–±―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β ―É–Ε–Β –¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –≥–Ψ–¥ (–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ βÄ™ –£–û–¦–Γ–û–ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β). –ö–Α–Κ-―²–Ψ –Φ―΄ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Μ―΄–Ε–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―¹―²―¨–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α βÄ™ –ö–Α–≤–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄―Ä–Ψ―¹―à–Β–≥–Ψ –≤ –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –™–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α ―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö ―¹ –Κ―Ä―É―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α. –î–Μ―è –°―Ä―΄ –Ε–Β, –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Η ―é–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Φ–Α–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι. –‰ –°―Ä–Α, –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Β–≤―΅―É―à–Β–Κ, –≤―΄–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤–Α―²―΄–Β –≤–Η―Ä–Α–Ε–Η, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹ ―¹–Α–Κ―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ –¥–Ψ―¹–Α–¥–Ψ–Ι: ¬Ϊ–ê –Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ, –Α –Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²¬Μ.
|
|
23. 60 –¦–ï–Δ –ü–û–î–£–‰–™–Θ –≠–ö–‰–ü–ê–•–ê –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-13¬Μ
| |
–½–ù–ê–Δ–§ –‰ –ü–û–€–ù–‰–Δ–§!
–€–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄, –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―é –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –ü–ê–€–·–Δ–‰ –‰ –Γ–¦–ê–£–Ϊ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ 60-–Μ–Β―²–Η―è –ü–û–ë–ï–î–Ϊ –Γ–û–£–ï–Δ–Γ–ö–û–™–û –ù–ê–†–û–î–ê –≤ –£–ï–¦–‰–ö–û–ô –û–Δ–ï–ß–ï–Γ–Δ–£–ï–ù–ù–û–ô –£–û–ô–ù–ï.
60 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―É―²―Ä–Α―²–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β II –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄.
–≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ¬Ϊ–Γ-13¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β–Ι –±–Α–Ζ―΄ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ–Α –™―É―¹―²–Μ–Ψ―³–Α¬Μ (25484 ―²―΄―¹―è―΅ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è).
–£ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹ 30 –Ϋ–Α 31 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1945 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É―à―ë–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ, ―É–Ϋ–Ψ―¹―è ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ω―΄―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Β–Ε–Α―²―¨ –Η–Ζ –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä―É―¹―¹–Η–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –≤―΄―¹―à–Η–Β ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Ϋ–Ζ―΄ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―΅–Α–¥–Α–Φ–Η –Η –¥–Ψ–Φ–Ψ―΅–Α–¥―Ü–Α–Φ–Η, –≥–Β―¹―²–Α–Ω–Ψ–≤―Ü―΄, –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Α―è ¬Ϊ–Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è¬Μ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Μ–Α–≥–Β―Ä–Β–Ι. (27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1945 –≥–Ψ–¥–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Φ–Η―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²―É―à–Η–Μ–Α –Ω–Β―΅–Η –û―¹–≤–Β–Ϋ―Ü–Η–Φ–Α). –£―¹―é ―ç―²―É ―¹–≤–Ψ―Ä―É –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–¥―΄ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η. –‰ –≤ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β 3700 –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, 100 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ –î–Α–Ϋ―Ü–Η–≥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Δ–Α–Φ –Ε–Β, –≤ –î–Α–Ϋ―Ü–Η–Ϋ–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Α―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ –Β―ë ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹ 1942 –≥–Ψ–¥–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ –™―É―¹―²–Μ–Ψ―³¬Μ, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ–Η, ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α–Φ–Η. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –™–Η―²–Μ–Β―Ä –Ψ―²–¥–Α–Μ –Μ―É―΅―à–Β–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ- –≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –î–Α–Ϋ―Ü–Η–≥–Α, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―³―é―Ä–Β―Ä –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–Γ-13¬Μ, –Η–Φ–Β―è –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É–Φ–Β–Μ–Α –≤―΄–Ε–Η―²―¨ –≤ –±–Β–Ζ―΄―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ϋ–Ψ-–Φ―΄―¹–Μ―è―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ βÄ™ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α –Ω–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―É –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, –≤ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ―΄―Ö ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –≤―¹―ë –Ε–Β –≤―΄―à–Β–Μ –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É –Η ―É―²–Ψ–Ω–Η–Μ –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä ―¹ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅–Β–Φ 80-―²―¨―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ (–Η–Ζ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Α 57 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Μ―è –Ξ–ΞI ―¹–Β―Ä–Η–Η –Η 14 βÄ™ –¥–Μ―è –Ξ–Ξ–®). –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ω–Β–Μ―è―Ö –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ –™―É―¹―²–Μ–Ψ―³¬Μ, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Α―è –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Α―è –ü–Ψ–±–Β–¥–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²―Ä–Β–Φ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰. –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ―É–¥–Α –±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –ö–Ψ–Μ–Β―¹–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ¬Ϊ–Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Α–Φ–Η¬Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η (–Ω―É―¹–Κ–Α–Ι –Ϋ–Β –≤―¹–Β 80, –Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α) –Ζ–Α–±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±―΄ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –ù–Ψ―Ä–Φ–Α–Ϋ–¥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –‰ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Θ.–ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ –‰.–£.–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ. –ü–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –î.–≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―Ö–Α―É―ç―Ä–Α, –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –¥–Μ―è ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Η–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ 21 ―²―΄―¹. ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≥―Ä―É–Ζ–Α –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ.
–€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄ –≥―Ä–Ψ―¹―¹-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Μ–Α –î–Β–Ϋ–Η―Ü–Α. –‰ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ―¹―è –±―΄ –≤ –≤–Ψ–¥–Α―Ö –¦–Α-–€–Α–Ϋ―à–Α. –ê ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –†―É–Ζ–≤–Β–Μ―¨―²―É, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Δ―Ä―É–Φ―ç–Ϋ βÄ™ –Η –€–Η―Ä –±―΄ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –ù–ï–ü–†–ï–î–Γ–ö–ê–½–Θ–ï–€–û–Γ–Δ–‰.
–ê―²–Α–Κ–Α –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Η–Φ–Β–Β―² –€–‰–†–û–£–Θ–° –½–ù–ê–ß–‰–€–û–Γ–Δ–§.
–û–¥–Β―¹―¹–Κ–Α―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≥―Ä―É–¥–Η –Ζ–Α―¹–Η―è–Μ–Α –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –½–≤–Β–Ζ–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.
–ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²―É ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ö–Ψ–Ω―¨―ë–≤–Α, –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α―²–Ψ–Φ –Φ―ç―Ä–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Α –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ (–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α) –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É β³•1 βÄ™ –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ. –‰ –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Β–Β–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι: ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä―É (–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β –Η –≤ –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α) –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –½–Α–≥–Ψ―Ä―É–Ι–Κ–Ψ - –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤βÄ™–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ.
27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 2005 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –Γ―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è –Ϋ–Α ―²–Β–Φ―É: ¬Ϊ60 –Μ–Β―² –ü–Ψ–¥–≤–Η–≥―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-13¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¹–Κ–Ψ-―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β 1945 –≥–Ψ–¥–Α¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, ―².–Κ. –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―² –£.–‰. –Δ―Ä–Ψ–Ω–Η–Ϋ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ê.–½–Α–Ι―Ü–Β–≤, –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –£.–Λ.–£–Α―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ 105 –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –™–Α–Μ–Η–Ϋ―΄ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ―΄ –ö–Ψ―¹–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Β –€―É–Ζ–Β―è –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ βÄ™ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€―É–Ζ–Β―è. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-13¬Μ. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–Μ –Β–Ι –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –€–Α―²―Ä–Ψ―¹¬Μ, ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –≤ –±―΄–Μ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –½–Ϋ–Α–Φ―è, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Β –Ϋ–Α–¥ –†–Β–Ι―Ö―¹―²–Α–≥–Ψ–Φ, –≤ –î–Ϋ–Η –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ω–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä―ë–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –≤ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α-–™–Β―Ä–Ψ–Η. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –½–Ϋ–Α–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –€―É–Ζ–Β–Β 105 –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄.
–ö–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Α –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η ―à–Κ–Ψ–Μ, ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι.
–Γ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η: –¥–Ψ―΅―¨ –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –≠–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―΄ –ü–Ψ–Μ―¨―à–Η, –†―É–Φ―΄–Ϋ–Η–Η, –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.
–Θ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η –ö–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η–Φ. –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –¦–Η–≤―à–Η―Ü–Β–Φ. –ù–Β–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Φ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –≤–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –™–Ψ―Ä―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤.
–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–Μ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ βÄ™ –±–Ψ–Μ–Β–Β 400 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü–Ψ ―²–Β–Φ–Β: ¬Ϊ–½–Ϋ–Α–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ¬Μ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –®–Κ–Ψ–Μ β³•105, 31, 70, 24; –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–¥–Ε–Α ―²–Β―Ö―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―³–Ψ–Ι–Β –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Α―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Ψ –™–Β―Ä–Ψ–Β-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η –Η–Φ. –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –û.–™. –ß–Η―Ä–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι.
–ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α ¬Ϊ–†–Β–Ϋ–Β―¹―¹–Α–Ϋ―¹¬Μ ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ–Η –Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Β.
–ù–Α –ö–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β –ü–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-13¬Μ –Η –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―Ä–Κ–Μ–Ψ. –¦―é–¥–Η –Ψ―²–¥–Α―é―² –¥–Α–Ϋ―¨ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–Φ―É―¹―è ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―é –Η –Β–≥–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Α–Φ βÄ™ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ.
–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –¥–Ϋ–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –≥–¥–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É―΅–Α―â–Η–Φ–Η―¹―è.
30 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 2005 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ―é–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥ ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η.
–ü–ê–€–·–Δ–§ –û –ü–û–î–£–‰–™–ï –ë–ï–Γ–Γ–€–ï–†–Δ–ù–ê !
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤
|
|
24. –®–Κ–Ψ–Μ–Α ⳕ105
| |
–Θ–Μ–Η―Ü–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö ―²–Ψ–Ε–Β
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ϋ–Ψ–Β ―²–Α–Κ―¹–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―ë―¹―²–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ–≤ –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ –Η –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–Μ–Α ―Ü–Β–Μ–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι.
–ê –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―è –≤ –®–Κ–Ψ–Μ―É β³• 105 –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤ ―ç―²―É –®–Κ–Ψ–Μ―É? –î–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ϋ–Α―à –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ β³• 1 –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ ―΅–Α―¹―²―΄–Β –≥–Ψ―¹―²–Η 105 –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –®–Κ–Ψ–Μ―΄, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Ψ―¹―²–Η - –Ψ–Ϋ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―² –≤ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β―²–Β–Ι. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 41 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –®–Κ–Ψ–Μ―É, –≥–¥–Β ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Γ–Α―à–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Φ―΄, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α, ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Β―ë –Ω–Μ–Α―΅–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –®–Κ–Ψ–Μ―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –≤―¹―ë –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Κ–Ψ―¹–Φ–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –ù–Ψ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –≤―¹―ë ―²–Β―Ö –Ε–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –ï―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η ―¹–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ζ–Α–Μ–Ψ–Φ, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –‰ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ, ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Κ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–ΒβÄΠ –ü–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―²―¹―è, –Η –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –≤ –Φ–Β―Ä―É ―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β ¬Ϊ―Ä–Β–Ι–¥–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö¬Μ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤
–€―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Β–Φ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –®–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 105, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ω–Μ–Α–Ϋ–Κ―É¬Μ –®–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Β –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Β –ü–Ψ–Μ–Η―â―É–Κ, –Β―ë –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è–Φ: –¦–Α―Ä–Η―¹–Β –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –•–Β―Ä–Β–±–Κ–Ψ, –û–Μ―¨–≥–Β –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –·–Κ―É–±–Ψ–≤–Η―΅ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―é –®–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€―É–Ζ–Β―è –Γ–Α―à–Η –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –€–Α―Ä–Η–Η –°―Ä―¨–Β–≤–Ϋ–Β –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Η –≤―¹–Β–Φ, –Κ―²–Ψ ―É–±–Η―Ä–Α―é―², –Φ–Ψ―é―², –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α―é―², –Κ―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –‰ –Β―â―ë –Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β: –™–Α–Φ–Ψ–≤ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Ζ–Η–Κ-―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ ―¹ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ, –Ϋ–Ψ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –ù–Α―à–Β–Ι –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι 105 –®–Κ–Ψ–Μ–Β.
–£ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Β―¹―²―¨ –Β―â―ë –€―É–Ζ–Β–Ι –ü―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –€–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ε–Β ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α―à –±―É–¥―É―â–Η–Ι –™–Β―Ä–Ψ–Ι-–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –Η –Ζ–Α–≤–Β–¥―É–Β―² ―ç―²–Η–Φ –€―É–Ζ–Β–Β–Φ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ―΅―¨ –≠–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α.
–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Μ―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Β―² –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –ù–Ψ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Η–Φ–Β–Ϋ–Α. –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –ö―É―΅–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –ù–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―Ü–Η―É–Φ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α.
–ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―è ―Ö–Ψ―΅―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Β –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Β –ö–Ψ―¹–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―Ü–Β, ¬Ϊ–Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Β –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-13¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―à –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Η –Β―ë ―ç―²–Η–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –™–Β―Ä–Ψ―è. –ü―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―â–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η―è, ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –®–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 105, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Γ–Α―à–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Η –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Β –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –½–≤–Β―Ä―à–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι.
–ü―É―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ ―è ―É–¥–Β–Μ―è―é –Β–Ι –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö: ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ε–¥―É―² –≤ ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Κ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―é –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Α, –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤–Β―΅–Β―Ä –Η –≤―¹―ë –Β―â―ë –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η.
–¦–Α―Ä–Η―¹–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –‰–Ζ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è-–Γ–Ϋ–Η―¹–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è¬Μ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-403¬Μ C–Β–Φ―ë–Ϋ―É –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –¦–Α―Ä–Η―¹–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Κ―Ä―É–Ω―É–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Ω―΄―²―΄- –Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η, –Ω–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Η―Ü–Α–Φ –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Α–≤–Β―²–Ψ–≤ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –†–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Α―Ä―Ö–Η–≤―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ¬Ϊ–≥–Β―¹―²–Α–Ω–Ψ¬Μ, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –≥–¥–Β, –±―΄–Μ –Η –Γ.–‰. –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
 –£ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―â―É–Κ–Η¬Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―² –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ü–Β―²―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Β–Μ―¨―è–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω–Ψ–Φ –Ε–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–©-403¬Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
–£ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―â―É–Κ–Η¬Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―² –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ü–Β―²―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Β–Μ―¨―è–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω–Ψ–Φ –Ε–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–©-403¬Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
–½–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–Β –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ –Ω–Ψ―ë―²: βÄ€–£―¹―²–Α–≤–Α–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―èβÄΠβÄù –ü–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η. 1944 –≥–Ψ–¥. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–¦-18¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ) –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Β–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β: ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η-―²―Ä―ë―Ö–Κ–Μ–Α―à–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ –½–Ψ–Β –ö–Ψ―¹–Φ–Ψ–¥–Β–Φ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι: βÄ€βÄΠ–Κ–Α–Κ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É –Δ–Α–Ϋ―é –≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹βÄΠβÄù. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü –±―΄–Μ–Α –Φ–Ψ―è –±―É–¥―É―â–Α―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –†―É–±–Α–Ϋ, –¥–Β–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β―Ü –Η–Ζ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –½–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –£–Μ–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β.
–ù–Α―à–Β –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Β –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Α–Β―² (―ç–Κ–Ψ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ!). –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ¬Ϊ―à–Β―³―¹―²–≤–Ψ¬Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―²: –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ ―à–Β―³–Ψ–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ω―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ –±–Η―²–≤―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, ―²–Ψ –Η–Ζ –Ψ–¥–Α―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―¹ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η –¥–Μ―è –®–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨. ¬Ϊ–Γ–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ¬Μ βÄΠ –Η –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Κ –Φ–Β―¹―²―É: –Ω―Ä–Η –Ϋ―ë–Φ ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²-–Ψ―²–¥–Α―΅–Α, –Α ―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Κ–Α―². –€–Β―Ü–Β–Ϋ–Α―²―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ –Ϋ–Α―¹, –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ. –ê –Φ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι, –≤–Β―¹–Ψ–Φ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹ –Γ–Η–Μ –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ¬Ϊ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ –Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α. –ö–Α–Κ –Φ–Β―²–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―² –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Η–Ι: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―â–Η―² ―¹ ―²–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Ψ–Ι¬Μ, –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι: ¬Ϊ–Λ–Μ–Ψ―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²¬Μ. –î–Α, –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ! –î–Α–Ε–Β –≤ ―²–Ψ―² ¬Ϊ–Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹―É–Ω–Β―Ä–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Η –±―΄ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ –Φ–Ψ―¹―²―΄ –î―É–Ϋ–Α―è –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–≤, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ, ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ. –ê –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α-–Ω–Η–≥–Φ–Β–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö-―²–Ψ –Η –Ϋ–Α –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤, –Α –Η―Ö –Ω–Η―Ä–Α―²―΄ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É–¥–Α –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Η –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ö–Α–Κ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥―é–Ε–Η–Ι ―²–Β–±–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Μ–Α–±―΄–Β, –Β―¹–Μ–Η –¥–≤–Ψ–Β¬Μ. –£–Ψ―² –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É, –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―² ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η.
–î–Ψ―²–Ψ―à–Ϋ–Ψ –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Α –Η –Μ―é–±–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι, –Η ―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α―Ö –Η ―¹―²–Α―²―¨―è―Ö ―è –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ψ –±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹―΄ –Γ–Η–Μ –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ¬Ϊ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ –Η –Ψ ―Ä–Ψ–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –î–Α, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é―¹―¨βÄΠ –‰ –±―É–¥―É ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–¥–Ψ–Μ–¥–Ψ–Ϋ–Η―²―¨¬Μ –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α ―à―²–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –≠–Μ –€–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Β―΅–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ ―è –≤―΄–±―Ä–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―¹–Η–Μ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –ù–Ψ ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ¬Ϊ–Κ―Ä―É―΅–Β¬Μ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η ―Ü–Η―²–Η―Ä―É―é –Β–≥–Ψ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α.
¬Ϊ–Γ―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –¥–≤–Α –Φ–Η―Ä–Α: –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –£ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄ ―¹―²―΄–¥–Η―²–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―¹, –≤–Ζ–Η―Ä–Α–Β―²–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É –≤–Ϋ–Η–Ζ, ―¹ –≤–Α―à–Η―Ö –Ψ–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ―². –£―΄ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²–Β –Ϋ–Α―¹, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²–Β –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Μ–Ψ–Φ –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β. –£ –≤–Α―à–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Α―Ä–Φ–Η―è –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Η―â–Β –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£―¹–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹–Β–±–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β, ―¹–≥―Ä–Β–±–Α―é―² –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é. –£―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ –Η –Ε–Η–≤–Β–Φ –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Μ–Α―²–Η―²–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Α–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±―è―²―¹―è –≤―¹–Β –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ ―É―¹–≤–Ψ–Η―²―¨, –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨, –Η–±–Ψ –≤―΄ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ―΄, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄, ―¹–Μ–Η―²–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΅–Η–≤―΄. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β―²–Β –Φ–Η―Ä –Η ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―²–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –≤―΄ –±–Β–Ε–Η―²–Β –Κ –Ϋ–Α–Φ, –£–Α―à–Η –Μ―É―΅―à–Η–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é―² –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö. –£―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Κ–Μ―É–±―΄-―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―²–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Ψ―΅–Β―Ä―è–Φ ―É–≥–Ψ―â–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η. –£―΄ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―²–Β –Ϋ–Α―¹ –Ω–Α –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―²–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è–Φ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Η ―Ä―è–¥―΄. –£–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Β–Ϋ –Ϋ–Α―à ―²–≤–Β―Ä–¥―΄–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä, –Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄ ―É―Ö–Η―²―Ä―è–Β―²–Β―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹ –≤―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β¬Μ.
–€―΄ –Ε–Β βÄ™ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η - ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –®–Κ–Ψ–Μ–Β, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹ –Β―ë ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―Ä–Β–Α–Ϋ–Η–Φ–Η―Ä―É–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η–Β ―É–Ε–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è, –Κ–Α–Κ –ü–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ, –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Κ –Μ―é–¥―è–Φ, –Β―ë –Ϋ–Α―¹–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö. –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ¬Ϊ–ü–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ¬Μ –Η –Β–≥–Ψ –Α–Ϋ―²–Η–Ω–Ψ–¥ βÄ™ ¬Ϊ–ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–ΙβÄΠ ―è ―É–Ε–Β –¥–Α–Μ –Β–Φ―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²―¨ –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ. –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Β–¥–Ϋ―è–Β―² –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ε―é–Μ―¨-–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–£–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Γ–≤–Β―²–Α –Ζ–Α 80 –¥–Ϋ–Β–Ι¬Μ: ¬Ϊ–î―Ä―É–≥–Η–Φ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ βÄ™ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë–Φ!¬Μ –≠―²–Α –Ε–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Μ–Η–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α―Ö, –¥–Α –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Κ–Μ–Α–¥–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α.
–‰ –≤–Ψ―² ―¹―²–Ψ―é ―è –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―è –±―΄–Μ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Α –Ϋ–Β –≤ ¬Ϊ–Μ–Α–Ω―¹–Β―Ä–¥–Α–Κ–Β¬Μ βÄî –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ―Ö–Μ–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η¬Μ –Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι (–Η ―ç―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β!!!) –Ω–Β―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η –Γ–Α―Ö–Α―Ä–Α (–Ϋ–Η –¥–Α―²―¨, –Ϋ–Η –≤–Ζ―è―²―¨, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ¬Ϊ–Μ–Η―¹―è―²–Α¬Μ –™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Η―¹–Α –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―¨ ―³–Β–Μ―¨–¥–Φ–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –≠―Ä–≤–Η–Ϋ–Α –†–Ψ–Φ–Β–Μ―è. –Θ–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η–≤ –Ϋ–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Ψ―Ö–Μ–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ, –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Β–Η –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ε–Β –Η–¥―É―²(!) –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι–±―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –‰.–€. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β―Ü, –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Μ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β. –ê –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥―è –Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η–Ζ―Ä–Β–Κ–Α–Μ: ¬Ϊ–£―¹–Β―Ö ―Ö–Φ―É―Ä―΄―Ö ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―É–±―Ä–Α―²―¨!¬Μ. –ù–Α ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Η ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄. –‰ –Ω–Ψ―΅―²–Η, –Κ–Α–Κ ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Δ–≤–Α―Ä–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–ü–Ψ–Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Η―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –±―É–¥–Β―² –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η¬Μ. –ê –Β―¹–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Η―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―², ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹―É―²–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α –Ψ ¬Ϊ―Ö–Φ―É―Ä―΄―Ö¬Μ.
–‰–≤–Α–Ϋ –€–Α―²–≤–Β–Β–≤–Η―΅ ―Ä–Β–¥―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –¥―É―à–Η –Η –Ψ–±–Α―è–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Γ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α. –®―²–Α–±–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α ―à―É―²–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–†–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α―¹ –¥―Ä–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Ζ, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Μ―é–±―è―², –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –¥–Ψ―΅–Κ―É.
–£–Ψ―² –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Β–Η, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ ―²–Β ―¹–Α–Ϋ–Η-―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Η, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α―¹ ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Κ–Μ–Α―à–Β–Κ¬Μ –Η ¬Ϊ―²―Ä―ë―Ö–Κ–Μ–Α―à–Β–Κ¬Μ –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ω―è―²―¨ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ―² –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―É―Ö―²―΄ ¬Ϊ–ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α―è¬Μ –½–Α–Μ–Η–≤–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –¥–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 4 ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Α ¬Ϊ–½–Α–≤–Β―²―΄ –‰–Μ―¨–Η―΅–Α¬Μ.
–€–Α―¹―²–Η―²―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β―Ö–Α, –¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Μ―é–¥ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―¹―¨ ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Β–Η, –Α –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―é –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Β―ë ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ―É―é ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é. –ê –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Β, –±―΄―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―ä―ë–Φ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é: –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –Η –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –±―΄―²–Α –Η –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹―΄ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Ι, –≤―Ä–Ψ–¥–Β, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι –≤ –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―é.
–ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨―¹―è –Κ –¥–≤―É–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–¥, ―ç―²–Η–Φ –Α–±–Ζ–Α―Ü–Β–Φ. –£–Ζ―è―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, ―ç―²–Η ―¹–Α–Ϋ–Η-―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Η –Η ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Κ–Μ–Α―à–Β–Κ¬Μ ―¹ ¬Ϊ―²―Ä―ë―Ö–Κ–Μ–Α―à–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –≤ –Ϋ–Η―Ö. –î–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Ϋ―è―Ö ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Μ–Η―à―¨ ―É –¦. –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–Ξ–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ¬Μ –Η –ê. –ß–Β―Ö–Ψ–≤–Α - –≤ ¬Ϊ–€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Β¬Μ. –≠–Κ–Ψ! –ö―É–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é, ¬Ϊ―Ä–Α―¹―²–Β–Κ–Α―è―¹―¨, –Φ―΄―¹–Μ―é –Ω–Ψ –¥―Ä–Β–≤―É¬Μ ?! –£ –Κ–Ψ–≥–Ψ―Ä―²―É ―¹–Α–Φ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–≤. –ê –Β―¹–Μ–Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ ―ç―²–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–≥–Β–Ϋ―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ ―²–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η–Ζ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ –Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ. –û ―¹–Α–Ϋ―è―Ö, ―É―¹―²–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Ϋ–Ψ–Φ, ―è ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ–≤ –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦. –ö–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Η―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Η –Η–Φ. –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ –Η―Ö –¥–Β―²–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α ―è―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―². –ê –Η―Ö ―é–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–Φ―΄ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ü―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α―Ö –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―É –Ε―ë–Ϋ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–≤–Α–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Β–Ι–Μ–Η–≤―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―à―²―É―΅–Κ–Η βÄ™ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Α―²―Ä–Η–±―É―²―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄: –Φ―É–Κ―É, –Κ―Ä―É–Ω―É –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, ―΅–Β–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä―΄–±–Α–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–¥–Ϋ–Η.
–™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Λ―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Δ―΄–Μ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Φ–Η. –î–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1941 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ω―ë―Ä–Μ–Η¬Μ ―³–Α―à–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ψ―² –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ϋ–Α 200 ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Α –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β 1944 –≥–Ψ–¥–Α –Θ―Ä–Α–Μ –¥–Α–≤–Α–Μ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –≤―¹―è –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α, –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α.
–ù–Α―Ä–Ψ–¥ –≤ ―²―΄–Μ―É –Ϋ–Α ―²―è–≥–Ψ―²―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–Ω―²–Α–Μ –Η –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è, –Κ–Α–Κ, ¬Ϊ–≤―΄–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Β–Φ –≤ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β –≤―΄–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, –Α –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―É –Ϋ–Α–¥ –Ζ–Μ–Β–Ι―à–Η–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ―É–≤–Ψ―Ä–Η―à–Η, ―¹–Κ―É–Ω–Η–≤―à–Η–Β –Ζ–Α –±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Κ –≤ ―²–Ψ–Ι ―¹–Φ―É―²–Β, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α 90-―¹―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―ç―²–Α–Ε–Η ―Ü–Β–Μ―΄―Ö –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ–Ψ–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, ¬Ϊ–≤―΄–Ε–Η–≤–Α―é―²¬Μ, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―è ―ç―²–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α¬Μ, ―¹–¥–Α–≤–Α―è –≤ –Α―Ä–Β–Ϋ–¥―É ―¹ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö–≥–Α–Μ―²–Β―Ä–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ―Ö–Α–Μ―è–≤―É¬Μ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è. –· –Η–Φ–Β―é –≤–≤–Η–¥―É –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Β―΅–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ―É–≤–Ψ―Ä–Η―à–Β–Ι. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Η, ―²–Ψ –Γ―É–Φ–Φ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β 50 ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ζ–Α–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ 112-―²–Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –±―é–¥–Ε–Β―²–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –ù―É –Α –Β―¹–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η –≤―¹–Β ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―É–Ω–Β―Ä–±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤ 100-–¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Κ―É–Ω―é―Ä―΄, –Η–Φ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ 8 –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –û–±―â–Α―è ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Η―Ö –Α–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² 85% –£–£–ü –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –Θ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –™–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Κ―É–Ω―é―Ä –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 340 –Κ–≥.
–£–Ψ―² ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Φ―΄―¹–Μ―è–Φ–Η ―è –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨ –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι ―Ä―É―΅–Β―ë–ΚβÄΠ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–±–Β–Ζ ―¹―É―΅–Κ–Α, –±–Β–Ζ –Ζ–Α–¥–Ψ―Ä–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ.
|
|
25. –ë–Α–Ϋ–Κ–Β―² –≤ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É –€–Α–Ι–¥–Ζ―É―Ä―É –Η –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–≤―à–Β–Β―¹―è ―Ü–Β–Ω―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι
| |
–ù–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β –≤ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É –Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –€–Α–Ι–¥–Ζ―É―Ä―É, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –¥–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η―ë–Φ. <–Γ–Α–Κ–Β> –Ω–Η–Μ–Η –Η–Ζ ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω―ë―Ä―¹―²–Κ–Η. –™–Β–Ι―à–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ζ–Α–Μ –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―É―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι, ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―ë–Φ–Κ–Ψ―¹―²–Η, –≥–Β–Ι―à–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Η―Ö ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―è: βÄ€–î–Ψ–Ζ–Α, –¥–Ψ–Ζ–ΑβÄù,- ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ-―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η βÄ™ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η-―²–Ψ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η ―É–¥–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Μ–Η: βÄ€–†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Α?!βÄù. –ù–Ψ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―³―É–Ε–Β―Ä―΄ –Η –≤–Η–Μ–Κ–Η. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –≥–Α–Ζ–Β―²–Α―Ö: –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β, –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―²/―Ö ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ¬Μ –¦―ë–≤–Α –ö―É–¥―Ä―è–≤―Ü–Β–≤ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―³―É–Ε–Β―Ä –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β―² βÄ™ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Φ―΄ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ ―à―É―²–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –Β–Φ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è. –ù–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ. –¦–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ –ö–Α–Ϋ–Α–¥–Β –Ψ―² –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ–Μ―¨–Φ–Β―Ä ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ.
–ö–Α–Κ –≤―΄ ―É–Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, ―è ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Μ―¹―è ―Ü–Β–Μ―¨―é, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η–Φ―ë–Ϋ, ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –Η –≤ –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≥–¥–Β –Η –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ. –ù–Β –Ψ–±–Β―¹―¹―É–¥―¨―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Ι –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Η–Μ―¨ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –°―Ä–Η―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –£–Ψ–Μ―¨–Φ–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É ―Ä―è–¥―É –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Η―Ö –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β ―²–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―¹–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α―΅–Ϋ―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Α–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Β―â–Α –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α, –ö–Μ–Α–≤–¥–Η―è –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α –½–Α–Ι―Ü–Β–≤–Α, βÄ™ –Φ–Ψ―è ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –®–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 4 –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Ψ, –Α –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β βÄ™ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―É–Ϋ–Κ―²―΄, ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±―É―Ö―²–Α–Φ –Η –±―É―Ö―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―â–Η–Φ –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –™–Α–≤–Α–Ϋ―¨ βÄ™ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―². –£ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É (―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Α―Ä―É –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥), 23 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –ö–Μ–Α–≤–¥–Η–Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 96 –Μ–Β―². –€―΄, –Β―ë ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Β―ë ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –î–Α―²–Ψ–Ι. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Α–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―ç―²–Ψ–Ι –®–Κ–Ψ–Μ―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―² ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è ―²–Β―Ö –Φ–Β―¹―² –≤–Η–¥–Α, –≤ –±―Ä–Η–¥–Ε–Α―Ö ―¹ –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è: βÄ€–€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, ―²―΄ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹?βÄù. –≠―²–Η–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –ö–Ψ–Μ―è –Γ–≤–Η―Ä–Η–¥–Α. –‰ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Β –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –≤ –£―΄―¹―à–Β–Φ. –€―΄ –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η―Ü―É, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η―Ü―É –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Κ―É –†–Η–Φ–Φ―É –®–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é.
–û–Ϋ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η βÄ™ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α <–€–Δ–©-92>, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ë―É―Ä–Μ–Η–≤―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ 56 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. –ê ―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ω―è―²―¨, –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–£–û–¦–Γ–û–ö–Β¬Μ βÄî –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ ―¹ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≥–Η―²–Α―Ü–Η–Η. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –±―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ ―¹ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –£–û–¦–Γ–û–ö`–Α, –≥–¥–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Φ―΄ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β. –ö–Ψ–Μ―è βÄ™ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―É –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ "–ö-136" 629-–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –£–€–Λ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Φ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Β–Β –±―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―à―²–Α–±―΄: –Ψ–Ω―΄―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α―Ö, –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α –Κ ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –‰, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―É –Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ―²―Ä―ë–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–ê–½-59, –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹ –Θ–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Θ–ê–½–Η–Κ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤ ―à―²–Α–± –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η, –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―΄, –¥–Α –Η ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, ―è –Φ–Ψ–≥ –Β–Ζ–¥–Η―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –±–Β–Ζ ―à–Α―³―ë―Ä–Α, –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Κ –≤ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β: –≤–Β–¥―¨ –Ω―É―²―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –ê–≤–Α―΅–Η –Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö―¹–Ψ―² –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤–Β―¹―¨ –ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –û―¹–Ψ–±―΄–Φ ―¹–±–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥: –Κ―É–¥–Α –Ε–Β –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤ ―É–Β―Ö–Α–Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―Ö ―¹–Ψ–Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―è –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β (–≤–Η–¥–Η―²–Β, –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α!) ―¹ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–Φ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ü–Α–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é ―¹–Β–±–Β ―à―É―²–Η―²―¨: βÄ€–£–Β―¹―¨ –£–Α―à –ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ, –ü–Β―²―è, –±―΄–Μ –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ, –≥–¥–Β –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α, –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä–≥–Α–Μ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –£–Μ–Α―¹―²―¨βÄù. –ê –Γ―²–Α―Ä–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―΅ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Ζ–Α–Β―Ö–Α–Μ –≤ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ―É –î–Ψ–Φ–Α –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –£–Β–¥―¨ –ù–Α―à–Α –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―é―â–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β.
–ï―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –Π–Β–Ϋ―²―Ä –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –·.–€. –€–Α―à–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι βÄî ―É–Ε–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä. –ï–≥–Ψ –Ω–Β―¹–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ–Α –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –½―΄–Κ–Η–Ϋ–Α, –ö―¹―²–Α―²–Η –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Φ –€–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-115¬Μ ―É –€–Α―Ä–Α―²–Α –ö–Α–Ω―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –£–Ψ―Ä–Ψ–±―¨―ë–≤–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –·–Κ–Ψ–≤ –€–Α―Ä–Κ–Ψ–≤–Η―΅ ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α-–™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è, –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –≤―¹–Β–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α.
–ï―â―ë –¥–≤–Α ―à―²―Ä–Η―Ö–Α –Η–Ζ –·―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.
–ë―É–¥―É―â–Η–Ι –€―ç―²―Ä –Η –ü–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≥ –Κ–Η–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Α (–Κ–Α–Κ –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Η) –ù–Η–Κ–Η―²–Α –€–Η―Ö–Α–Μ–Κ–Ψ–≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Α–≥–Α–≤ –Ω–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –€–Α―à–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Α–Μ –£–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â―É―é –½–≤–Β–Ζ–¥―É –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α –≤―¹–Β–Φ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Η ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Γ–Α–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Μ―¨―Ü–Α. –‰, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Η–Φ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –≤―΄―à–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α.
–‰ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –·―à―É –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –±―É―Ö―²―É –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –€–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Β―â―ë –¥–Α–Μ―¨―à–Β –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Β. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Μ–Η–Ϋ–Η―é –Φ―΄―¹–Ψ–≤, –Δ―Ä―ë―Ö –ë―Ä–Α―²―¨–Β–≤ –Η ―É–Ε–Β –≤ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –®―²–Ψ―Ä–Φ ―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ―΄–Ι. –ù–Ψ ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β ―²―É―΅–Η, –≤–Β―΅–Β―Ä–Β–Β―²βÄΠ –Δ―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¹―è ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―². –ù–Α–Κ–Α―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ (–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è). –ù–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α―²―¨ –≤―¹–Β–Ι ―ç―²–Ψ–Ι ―É–≥―Ä―é–Φ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –‰ –·―à–Α, –Κ–Α–Κ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ, ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β―Ö–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ –¥―É―à―É. –‰ ―²–Ψ–Φ―É ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è: ¬Ϊ–£–Ψ―² –Η–¥―É –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü –Ϋ–Α –±―Ä–Α–Ϋ–¥–≤–Α―Ö―²―É, –Α –¥–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è, –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―è, –Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Ψ―¹―è―Ö¬Μ. –‰ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–ΒβÄΠ
–ê –≤ –·―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β ―É–Ε–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Β―ë –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―²―΄, –Β―â―ë –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β―ë ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―²–Β–Κ―¹―² ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α, –Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Β―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ―è. –ï―¹–Μ–Η ―É –®―²―Ä–Α―É―¹–Α-–Ψ―²―Ü–Α –≤ –Φ–Α―Ä―à–Β –†–Α–¥–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α―΅–Β―² ―²―è–Ε―ë–Μ–Α―è –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Η―è, –Α ―É –®―²―Ä–Α―É―¹–Α-―¹―΄–Ϋ–Α –Μ―ë–≥–Κ–Α―è –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –≤ ―É–≤–Β―Ä―²―é―Ä–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Β―²―²―΄, ―²–Ψ ―É –·–Κ–Ψ–≤–Α –€–Α―à–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≤―¹―è –Φ–Ψ―â―¨ –Η ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α.
–ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –±―Ä–Α–Ϋ–¥–≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄, ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Α –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Α―¹―¨. –Λ–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä –≤―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Ζ–Ψ–Κ: ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –≤ ―²―Ä―ë―Ö-―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö ―¹–Κ–Α–Μ–Α, –Α ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―΅–Α–Ι–Κ–Η –±―Ä–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–Φ–Β–Μ–Η.
–¦–Ψ–¥–Κ–Η 641-–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α - –Ω–Ψ –Ϋ–Α―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä―²–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Λ–Ψ–Κ―¹―²―Ä–Ψ―²―΄¬Μ βÄ™ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ―΄ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Μ―É―΅―à–Η–Φ–Η –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η. –Λ–Ψ–Κ―¹―²―Ä–Ψ―² βÄ™ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Α―Ä―²–Ϋ―ë―Ä―à–Α –≤ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Φ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β –Ω–Ψ–¥–Α―²–Μ–Η–≤–Α –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Α. ¬Ϊ–ù–Α―²–Ψ–≤―Ü―΄¬Μ ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―²: ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―ç―²–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ 641-–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. –Δ―Ä―ë―Ö–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η–Φ–Η –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Β. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ―ç―²–Ψ–Ι ―É–Ζ–Κ–Ψ―¹―²–Η ―è –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –≤ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ, –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Α―Ö―²–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Φ―É–¥―Ä–Η–Μ–Α ―¹ –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹–Α–Φ–Η –≥–Η–¥―Ä–Α–≤–Μ–Η–Κ–Η, βÄ™ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ –≤―¹–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –≥–Η–¥―Ä–Α–≤–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –½–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ―¨ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Μ―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥―Ä–Α–¥―É―¹, –Η ―²―΄ –Ω–Ψ―¹–Κ―Ä―è–±―É–Β―à―¨ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Μ―΄ –Η–Μ–Η ―É–Ω―Ä–Β―à―¨―¹―è –≤ –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―É―é –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―΅–Α–Ι–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―¹–Β –Ψ–±―Ö–Ψ―Ö–Ψ―΅―É―²―¹―è.
–ê –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β –Κ―Ä–Α–±―΄ –Μ–Β–Ζ―É―² –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Β –Η ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹ ―¹–Β–±―è –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Β –Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä–Η, –Α –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η –Ψ–Ω―É―¹―²–Ψ―à–Α―é―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Η, –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι ―¹–Ϋ–Β–≥ –Ω–Ψ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―ç―²–Α–Ε ¬Ϊ―Ö―Ä―É―â―ë–≤–Ψ–Κ¬Μ, –Α ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Α―è―¹―è ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Α―è –Μ–Α–≤–Η–Ϋ–Α ―É–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –±―É–Μ―¨–¥–Ψ–Ζ–Β―Ä ―¹ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β―ë –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –±―΄ –Μ―é–¥–Η.
–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α―Ö –Η –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η βÄΠ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―É–Ε –Ϋ–Β―É–Φ–Β―Ö–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ―É. –½–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ 27 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―à–Β―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω―è―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö βÄ™ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η―Ö –Η ―²―Ä–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö. –£ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Κ –Ψ–±―â–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Γ–Γ–Γ–†- 2,1%; –Γ–®–ê- 2,4%; –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è- 16,7%; –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è- 36,4%. –≠―²–Η ―Ü–Η―³―Ä―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Β―¹―²―¨, ―΅–Β–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Η –Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è, ―²–Ψ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―² ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η. –ï―â―ë –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: –≤ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ζ–Α ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Γ–®–ê –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ 125 –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ–≤, 85 –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤, 56 ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι, 48 –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι, 12 –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨. –Θ –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –Β―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ–≥–Α―²–Α―è. –ü–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –¥–≤–Β, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Α―è –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä! –ü―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹–Ψ ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β Kariskrona skargard –≤ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä―΅–Φ–Β, –Β―ë ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Κ βÄ€–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–ΗβÄù –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Β, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Η–Ζ–¥―ë–≤–Κ–Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–ù–Β ―ç―²–Α –Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β―΅–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ―è―Ö?¬Μ –£―Ä–Β–Φ―è –Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ψ―²–¥–Α–Μ―è―é―²―¹―è, –Α –Κ―É―Ä―¨―ë–Ζ―΄ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 20-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α <–€–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―¹―²> –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–Ζ–Α–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β. –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≤―¹–Β –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―²–Ψ–Ι –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ù–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Μ–Η –£–Α–Φ ―¹–Ψ–Μ–Η?¬Μ –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―² –±―΄–Μ –Η –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β ―¹ –ü–¦ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ö–Α―¹–Α―²–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≤―¹―ë ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è.
–ù–Α ¬Ϊ–€–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Β¬Μ –≤ ―²–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Β―â―ë –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –•–Η–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ―É―é –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Β, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–ù–Α –Ω–Ψ–Μ―Ä―É–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Κ–Α¬Μ, –Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –ù–Α―΅–Α–≤ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α, ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –ü–¦ <–€-46>. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Β–Φ―É –±―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Ψ –Μ–Β―². (–Θ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ). –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Ω–Ψ-―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –≠―²―É –î–Α―²―É, –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–≤ –Δ–Α–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –≥–¥–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Η –Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –î–Ψ–Φ–Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Α–Μ―΄–Β ―Ä–Ψ–Ζ―΄ –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ―É –≤ –≤–Η–¥–Β ―Ä―É–±–Κ–Η –ü–¦ ―¹–Ψ "–½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η", –≤―΄–±–Η―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β.
–£ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, –Η –±―É–¥―É –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ. –€–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ 1-―΄–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ, –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ 100-–Μ–Β―²–Η–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―é –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ü.–£.–Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Α –Β–≥–Ψ –¥―è–¥―è –û–Μ–Β–≥ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ-–≤–Η–Ϋ–Β―²–Κ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–Θ–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–€-46¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ψ―²–Ψ―à–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Γ–Κ–Ψ–Ω―Ü–Ψ–≤–Α –Η –‰–≥–Ψ―Ä―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Α, ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è―é: –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ϋ–Α –Δ–û–Λ –ü–¦ ¬Ϊ–€-48¬Μ, –Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –Κ –Φ–Β―¹―²―É ―É–Ε–Β –ü–¦ ¬Ϊ–€-46¬Μ. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –Η ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V –ê.–Γ.–Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β –Ω–Ψ –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Γ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Β–Φ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –¥–Α–≤–Ϋ―è―è –¥―Ä―É–Ε–±–Α: –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² βÄ™ ―è ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Η ―²–Α–Κ –Ω–Ψ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è–Φ –¥–ΨβÄΠ –Ψ–±–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ψ–Ϋ –½–Α–≤.–ö–Α―³–Β–¥―Ä–Ψ–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α. –î–Ψ―΅―¨ –Β–≥–Ψ, –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, ―¹―²–Α–≤―à–Α―è ―É–Ε–Β –±–Α–±―É―à–Κ–Ψ–Ι, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―² ―Ä–Β–Μ–Η–Κ–≤–Η–Η –Η ―¹–≤–Β―²–Μ―É―é –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ψ―²―Ü–Β.
βÄΠ –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Ψ–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α βÄî –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α –Ω–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ¬Μ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α: ¬Ϊ–ö–Ϋ–Η–Ε–Κ―É¬Μ, –Κ–Α–Κ –Η ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Β―ë –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨¬Μ.
–ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Β –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β.
 –£ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Γ–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η–¥―ë―² –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α: –Κ–Ψ–Ω–Α―é―² –Κ–Ψ―²–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ―è―² –Η ―É–≤–Ψ–Ζ―è―². –‰–¥―ë―² ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ
–ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Η <–Ζ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä> –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –£.–ü.–†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η: ―¹–Ψ ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –ö–Ψ–Ω―¨―ë–≤―΄–Φ, –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Η–Φ–Ψ–Φ, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ 216 –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Η–Κ–Ψ–Φ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α¬Μ –£–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –Η –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û―²–¥–Β–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –™–Ψ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α.
–£ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Γ–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η–¥―ë―² –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α: –Κ–Ψ–Ω–Α―é―² –Κ–Ψ―²–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ―è―² –Η ―É–≤–Ψ–Ζ―è―². –‰–¥―ë―² ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ
–ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Η <–Ζ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä> –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –£.–ü.–†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η: ―¹–Ψ ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –ö–Ψ–Ω―¨―ë–≤―΄–Φ, –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Η–Φ–Ψ–Φ, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ 216 –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Η–Κ–Ψ–Φ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α¬Μ –£–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –Η –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û―²–¥–Β–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –™–Ψ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α.
–ê –Β―¹–Μ–Η –≤–Ζ―è–Μ―¹―è –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Η–ΦβÄΠ, ―²–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö! –û–Ϋ –±―΄–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Α–Ε ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―Ä―¹―΄ –¥–Μ―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–†–Α–Ζ ―É–Ε ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ζ–Α―à―ë–Μ –Ψ ―²–Β―Ö –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Η―Ä―¹–Α―Ö, ―²–Ψ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨: (–û–Ω―è―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ! –£―¹―ë –Ε–Β –Ω―Ä–Α–≤ –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅) –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α ―¹ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É, –≤ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η. –‰–¥―ë―² –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é ―²–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η―è–Φ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α <–ö―É―Ä―¹–Κ–Β>, –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ–Ψ –≤ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β, –≤―΄―¹―É–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É: –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥―΄―Ä―΅–Α―²―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ε―É―Ö –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Β. –ß–ü. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α–Φ –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α. –Δ―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ ―¹―²–Ψ–Η–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ –™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 1. –£―¹―ë –¥―É–Φ–Α―é―². –ù–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –ü–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ―É –ê–Κ―²–Η–≤―É. –€–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –≠―²–Ψ―² –Λ–Ψ―Ä―É–Φ. –· ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ: ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α, –Ω–Ψ–Φ–Η–Μ―É–Ι―²–Β, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Η―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹ ―²–Ψ―Ä―΅–Α―â–Β–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ι¬Μ. –ê –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ψ―²–≤–Β―²; ¬Ϊ–û―¹–Μ―É―à–Α–Β―à―¨―¹―è! –ü–Α―Ä―²–Η―è ―²–Β–±―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β ―²–Β–±―è –Η ―É–±–Β―Ä–Β―²!¬Μ –‰ ―è –Η–Ζ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι: –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ,- ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η –≤ –£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β ―¹–Ψ―à―ë–Μ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, ―è ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Η–Ε―É,βÄΠ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ (–±―É–¥―É―â–Η–Ι –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ) –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä! –£–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –±―É–Μ―¨–¥–Ψ–Ζ–Β―Ä–Β ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Α–Μ ―¹–Ϋ–Β–≥. –· –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –¥―ë―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―ɬΜ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Η–Φ–Α.
–£–Ψ―² –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –û–Μ–Β–≥ –Η –≤―΄–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―²―¹―è –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α–Φ–Η. –ü–Α–Φ―è―²―É―è –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ, ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ.
–ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–≤ –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Ψ–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α: ¬Ϊ–ö–Ϋ–Η–Ε–Κ―É¬Μ (–≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―²–Β–Κ―¹―²), –Κ–Α–Κ –Η ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Β―ë –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨¬Μ.
|
|
26. –ù–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –Β–≥–Ψ –°–±–Η–Μ–Β―è
| |
(–Ψ–± –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Β –Γ―²–Α―¹–Β –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤–Β –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ –Ϋ―ë–Φ)
–û–± –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ βÄ™ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ. –ï―¹–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, ―³–Α–±―Ä–Η–Κ―É –Η–Μ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι βÄ€–Π–Β–Ϋ―²―Ä-–ê–≤―²–Ψ―¹–Β―Ä–≤–Η―¹βÄù, ―²–Ψ ―²–Α–Φ –Β―¹―²―¨ –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä, –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―ç―²–Η –¥–≤–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η―Ü–Β, –Α –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Α ―Ä―É–Μ–Η –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³―΄. (–≠―²–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Ε–Β –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β. –î–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä).
–‰ –≤–Ψ―² –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―²―¹―è –Ω―è―²―¨ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―É―΅–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –Λ.–≠. –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ: –£.–ê. –½–Α–Ι―Ü–Β–≤, –Γ.–€. –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤, –ï.–Γ. –¦–Η–≤―à–Η―Ü, –‰. –Γ―É―Ö–Ψ–Φ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –£. –€–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–ï―¹–Μ–Η ―ç―²–Η –Ω―è―²―¨ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―²–Ψ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Η –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η-–Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Α―² ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è. –Δ–Α–Κ –Κ –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –†―è–±–Ψ–≤―É, –≥–¥–Β ―è –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ ―Ü–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É ―¹ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι. –ù–Ψ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Α―¹―¹–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 25 –Μ–Β―² –Φ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –°–±–Η–Μ–Β–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è. –£ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α ¬Ϊ–ö–Η–Β–≤¬Μ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α ―²–Ψ―¹―²–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ö―É–Μ–Α–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α, ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―¨―é ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ!¬Μ
–û –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―²―Ä―ë―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α―Ö I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è―Ö –Β―â―ë ―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―à―²―Ä–Η―Ö–Α―Ö. –û ¬Ϊ―²―Ä―ë―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ―É―à–Κ–Β―²―ë―Ä–Α―Ö¬Μ c –Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –≤―¹–Β―Ö –Η –≤―¹–Β –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –û–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―è―Ä–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É ―ç―²–Η―Ö –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≤-–Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤: –£.–ê. –½–Α–Ι―Ü–Β–≤–Α, –Γ.–€. –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤–Α, –ï.–Γ. –¦–Η–≤―à–Η―Ü–Α, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –Ψ–¥–Ϋ–ΗβÄΠ –Η –±–Β–Ζ –≥―Ä–Ψ―à–Α –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–ΒβÄΠ –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε―É –Ψ –¥–≤―É―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α―Ö I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ―²―Ä–Ψ–Η―Ü―΄¬Μ: –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Η –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β –¦–Η–≤―à–Η―Ü–Β βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –®―²–Α–±–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é 41 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Η –Β–≥–Ψ –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β –Ω–Ψ –®―²–Α–±―É –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤–Β –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤–Β. –û –•–Β–Ϋ–Β –¦–Η–≤―à–Η―Ü–Β –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–ΨβÄΠ –î–Ψ –Γ―²–Α―¹–Α –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤–Α ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―¹―¨. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ ―΅–Η–Ϋ–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-V ¬Ϊ–Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Δ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Γ-270¬Μ, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –≤ ―²–Β―Ö –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―é –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η-–Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-19¬Μ.
–¦–Ψ–¥–Κ–Η 613-–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―² –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ψ ―¹–Β–±–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―É–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –ê―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ê –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ ―ç―²–Η―Ö ¬Ϊ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ. –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-270¬Μ –±―΄–Μ–Α –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Η –Κ –Β―ë 613-―²–Η –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ–Μ–Η―²–Β―Ä –®¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―², –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤―΄–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄, –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ - ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹ –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β―²–Η―â–Β –Η –Ω–Ψ―à―ë–Μ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ ―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Μ–Η―à―¨ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Α –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –ê ―¹―É―²―¨ –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ: –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Α (–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ) ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Φ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹ ―³―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Β–Ζ–Α–Β―² –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Α–Ζ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ 108 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤ ―²―Ä―ë―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Β –Μ―¨–¥–Α. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ϋ–Β–≤–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―²–Ψ–Μ–Κ–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Μ–Β–¥―è–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–±–Κ―É –Ψ―²–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―² –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –ê –≤ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è ―²―Ä―É–±–Α, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Α―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α –Μ―ë–¥. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Α ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –≤ ―³―É―²–±–Ψ–Μ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Ψ–Μ―é―¹–Β.
(–î–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² ¬Ϊhomo sapiens¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Κ–Α–Μ–Β―΅–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α!!!)
–‰―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β. –ù–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –±–Β–Ζ –Κ―É―Ä―¨―ë–Ζ–Ψ–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Η–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ¬Ϊ–±–Η―²―¨¬Μ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ω―²–Η–Κ–Α –Ψ―² –≤–Η–±―Ä–Α―Ü–Η–Η: –≤–Β–¥―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –±–Α–Ζ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²―è―² ¬Ϊ37-–î¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η, ―²–Ψ –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Β –¥–Ψ 2-―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –¥―Ä–Β–±–Β–Ζ–Ε–Α―² –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Η―é –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≤–Α―Ö―²―É –Ϋ–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Η: –¥–Α, –Η ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨, –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Μ―ë–¥ –Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ, –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η―Ö ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β―². –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²―É ―¹–Α–Φ―É―é ―²―Ä―É–±―É –≤―΄–Μ–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Ω–Ψ–Κ―É―Ä–Η―²―¨, ―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η: ―¹―²–Ψ―è―² –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Β―ë ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ―É–Α–Ζ–Η–Κ–Α¬Μ ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Η ¬Ϊ–™–ê–½-66¬Μ ―¹ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ε–Η, –≤–Ζ–Η―Ä–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ―΄―Ö–Α―é―â–Β–Β ¬Ϊ–ß―É–¥–Ψ-―é–¥–Ψ¬Μ.
–£–Ψ―² –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-V, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤.
–ö–Η―²–Β–Μ―¨ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β –≤ ―΅–Β―¹―²–Η –Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –‰, –Κ–Α–Κ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –½–Α–Ι―Ü–Β–≤ - –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, ―΅–Μ–Β–Ϋ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι. –¦―é–±–Η–Φ–Β―Ü –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, ―¹–¥–Α–±―Ä–Η–≤–Α―è ―²–Β–Ψ―Ä–Η―é –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–Ι, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β–¥―¨ –Β–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –ë–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Γ–Μ―É–Ε–± –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α―Ö –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö βÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ–Μ–Α–¥–Β–Ζ―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –¥–Μ―è –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä- –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ü–Α–Φ―è―²―É―è, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –†―É–Μ―é–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β (–Ψ―² ―¹–Β–±―è, –Η–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö, –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―é - –Η –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β): ¬Ϊ–£―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹―ë –ë–ß-V¬Μ. –Θ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―É–Ε –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è―Ö –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―¹ ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι. –Θ –Γ–Μ–Α–≤―΄ –½–Α–Ι―Ü–Β–≤–Α ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Ι.
 –£–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –¥–≤–Ψ–Β –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Α –½–Α–Ι―Ü–Β–≤ –Η –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Α –ê―Ä―²―é―à–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Β–Φ―É –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–Μ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ö–Ψ–Μ―΅–Α–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ. –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―². –£–Ψ―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –¥–≤–Ψ–Β –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Α –½–Α–Ι―Ü–Β–≤ –Η –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Α –ê―Ä―²―é―à–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Β–Φ―É –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–Μ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ö–Ψ–Μ―΅–Α–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ. –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―². –£–Ψ―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–ö–Η―²–Β–Μ―¨ βÄî ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Α―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è ¬Ϊ–Ψ–¥―ë–Ε–Α¬Μ. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β. –Ϋ–Β―² –Ψ–Ω–Α―¹–Κ–Η (–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤), ―΅―²–Ψ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ –Ϋ–Α–Φ–Ψ―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΅–Α―²―΄–Ι –≤–Α–Μ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è.
|
|
27. –¦–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ―΄
| |
–¦–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ βÄ™ –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α
–î–Α, –û–¥–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Β―¹–Μ–Η –±―΄, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Α–Κ–Ψ–Β: –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―²―É―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Α–¥―Ä–Α–Φ–Η, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―ç―²―É –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α –±―΄ ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Η–Ζ–±―΄―²–Κ–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Φ―ë–Ϋ –Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ –Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è–Φ –Ϋ–Η –¥–Α–Μ–Α –û–¥–Β―¹―¹–Α –€–Η―Ä―É, –Κ–Α–Κ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Η –±–Β–Ζ (―΅–Η―¹―²–Ψ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–£–Α–Φ ―¹ ―¹–Η―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –±–Β–Ζ?¬Μ) –ö―¹―²–Α―²–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨, ―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–Ω–Μ―é―¹¬Μ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Η ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β―â―ë –±―É–¥―É―² ―ç―²–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Φ–Β―¹―²–Α–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ß―²–Ψ–±―΄ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ―¹–Κ–Η, –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Η―²―΄, –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―ç–Ϋ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ω–Β–¥–Η–Η –Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä–Η –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―à–Β–Β―¹―è¬Μ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Β. –ê ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –¥–Η–Α–Ω–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Η ―¹–Ω–Β–Κ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Α –‰–Φ―ë–Ϋ –ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄―Ö –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Ψ―² –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Ω–Ψ―΅―²–Η –¦–Α―É―Ä–Β–Α―²–Ψ–≤ –ù–Ψ–±–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η―Ö –ü―Ä–Β–Φ–Η–Ι¬Μ, –Φ―É–¥―Ä–Β–Ι―à–Η―Ö –≥―Ä–Α–¥–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö –Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―ÖβÄΠ –¥–Ψ ―à–Α–Ϋ―¹–Ψ–Ϋ―¨–Β.
–ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η, –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Η –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥―É –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨. –ê –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.
–ù–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –ë–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –¥–Ψ–Φ. –ü–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –≤―Ö–Ψ–¥ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α―è –¥–≤–Β―Ä―¨, –Ϋ–ΨβÄΠ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β―é –Ϋ–Α –±–Β―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ–Α–Φ –¥–≤–Α –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –·–Κ–Ψ―Ä―è. –Γ–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨: ¬Ϊ–ö ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?¬Μ –ê ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―²: –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹―É–±–±–Ψ―²–Α–Φ –Η –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨―è–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä―΄ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Η ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ–Η ―¹–Ψ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ–Ι ―à–Β–≤―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Β –Ψ―² –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Α―à–Α (―ç―²–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä―è–Φ–Α―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Α–±–Ψ―Ä–¥–Α–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Α–±–Μ―è), –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α―è –Κ–Η―¹―²–Ψ―΅–Κ–Α ―ç―³–Β―¹–Α ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Α–Κ―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Β –≤―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ―΅–Κ―É.
–Δ–Α–Κ –Κ―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η βÄ™ ―ç―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ω―É―²―ë–≤–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –ü–Β–Ϋ–Α―²―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β―Ä―¨ ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä―è–Φ–Η?
–Γ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö, –Α –Κ–Ψ–Β-–≥–¥–Β –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –≤ ―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α, ―²–Ψ –±–Η―à―¨ ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä–Α. –ê ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Β–Β ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ¬Μ. –‰–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ ―¹―²–Α, –Α –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―Ü–Β–Μ–Α―è –Α―Ä–Φ–Η―è ¬Ϊ–Ζ–Β–Φ―¹–Κ–Η―Ö¬Μ –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι. –· –Ϋ–Β –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ–Ζ–Β–Φ―¹–Κ–Η–Β¬Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ–¦–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ¬Μ βÄ™ –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α.
–û–Ϋ–Η ―É–Φ–Β–Μ–Η –≤―¹―ë –Ψ―² –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ―É–±–Ψ–≤ –¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ζ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ¬Ϊ―É ―΅―ë―Ä―²–Α –Ϋ–Α –Κ―É–Μ–Η―΅–Κ–Α―Ö¬Μ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ¬Ϊ–Α–±–Ψ―Ä–Η–≥–Β–Ϋ–Α–Φ¬Μ, –Ε―ë–Ϋ–Α–Φ ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤, –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Κ ¬Ϊ―΅―ë―Ä―²―É –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≥–Α¬Μ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Φ―É–Ε―¨―è–Φ–Η –Η –Ψ―²―Ü–Α–Φ–Η. –¦–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η –≤―¹―é –Ψ–Κ―Ä―É–≥―É, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Η―²―¨ ―Ö–≤–Ψ―é ―ë–Μ–Ψ–Κ –≤–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β ―Ü–Η–Ϋ–≥–Η –ΗβÄΠ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É. –£ ―²–Β―Ö, –Ψ―¹–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö, –±―É―Ö―²–Α―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η, –Κ–Α–Κ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β: ―¹―²–Ψ–Η―² ―³―É–Ϋ–¥–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―΅―É–≥―É–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ ―¹ –Φ–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö―É, –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―É–Φ–Β―Ä―à–Η―Ö –Ψ―² ―Ü–Η–Ϋ–≥–Η. –‰ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, ―Ä―΄–±―΄, –Η –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι, ―²–Α–±―É–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω―Ä―É―â–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Β―Ä–Β―¹―². –Δ–Α–Ι–≥–Α βÄ™ –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤–Α―è –≤–Η―²–Α–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α: –Κ–Β–¥―Ä, –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –≤–Η–¥–Ψ–≤ ―è–≥–Ψ–¥. –ö–Μ―é–Κ–≤–Α, –±―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ―à–Κ–Α –Κ―Ä―΄–Ε–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ, –¥–Η–Κ–Η–Ι –Μ―É–Κ, ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ–Κ, ―΅–Β―Ä–Β–Φ―à–Α, –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―¨―è –±―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥―Ä–Η–±―΄ βÄ™ –Η –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –û―²–≤–Α―Ä –Μ–Η―¹―²―¨–Β–≤ –±―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Ψ―΅–Β–Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨―é. –£―¹–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η ―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –¦–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ―΄. –ë―Ä―É―¹–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―¨―è –Η –≤ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö –Α–Ω―²–Β–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―à―¨, –Α ―²–Α–Φ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β–Ζ–¥–Β –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –≥–Η–±–Μ–Η –Ψ―² ―Ü–Η–Ϋ–≥–Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ βÄ™ ―Ö–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Η –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Β –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η.
–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¦–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η –Ω–Β–¥–Η–Α―²―Ä–Α–Φ–Η. –Γ–Β–Φ―¨–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ (–≤―¹–Β –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η) –Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Α―Ö. –ö–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ (–Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ) –¥–Μ―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―΅―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Β―â―ë –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ö–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Β–Φ―É –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Β, –±―΄–Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β–¥–Η–Κ. –ü―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–≤ ―²―Ä―É–±–Κ–Ψ–Ι-―¹―²–Β―Ä–Β–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹―²―É–Κ–Α–≤ –Κ–Ψ―¹―²―è―à–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ –±―É–¥―É―â–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–¥–Η –Η ―¹–Ω–Η–Ϋ–Β, –Η–Ζ–≤–Μ―ë–ΚβÄΠ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Β –Η–Ζ ¬Ϊ–Ζ–Β–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―¹–Α–Κ–≤–Ψ―è–Ε–Α, –Α –Η–Ζ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Α –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Κ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –Μ–Β―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―²―¨–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–ù–Α ―É–Μ–Η―Ü―É –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨¬Μ. –≠―²–Ψ –Η–Ζ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Η(!). –ê –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è, –Μ―É–Ε–Η―Ü―΄ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Β–¥–Κ–Ψ–Φ. –‰ –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨?!! –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β ―Ä―É–Κ–Η –Η–Ζ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –î–Ψ–Φ–Α ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è–Φ–Η ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –ë–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à―É―é –Γ―É–¥―¨–±―É, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―é ―¹ –½–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι.
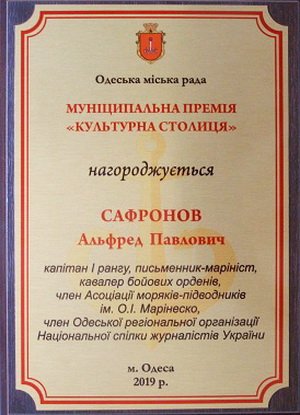
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β, –Β―¹–Μ–Η –±―É–¥―É―â–Η―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι ―É―΅–Η–Μ–Η –Α–Κ―É―à–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―è–Φ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ψ–±―â–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―ç―²–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Κ ―΅–Β–Φ―É, ―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Λ–Μ–Ψ―²–Α―Ö –€–Η―Ä–Α, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Ϋ–Α –ù–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―è –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –û–Μ–Β–≥–Α: ¬Ϊ–ê –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―²?¬Μ ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–Κ, βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, - –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α¬Μ.
–û ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α―Ö, –Ψ–± –Η―Ö –Ψ–±–Μ–Η–Κ–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―¹―²–Α–≤–Α –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –±―É–¥–Β―² –Β―â―ë –Η–¥―²–Η. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε―É –Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α―Ö.
–®–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è. –Λ–Μ–Ψ―² –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –£–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Η –Μ―é–¥―è–Φ. –ï―¹–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É –Η –¥–Α–Ε–Β, –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―² –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄, ―²–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ. –ê –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤¬Μ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ε–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η βÄ™ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Η ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Η –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η―Ü–Β, –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―¹–Β–±–Β. –ë―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η.
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η –Β―â―ë –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ¬Ϊ–Μ–Β–Ω–Κ–Ψ–Φ–Α–Φ–Η¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―². –ü–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Η –Δ–Η―Ö–Η–Ι, –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―â–Η–Ι –Η―Ö –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –≤ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―΄–≤–Β, ―¹–Ω–Β―à–Α –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Δ–Β–Α―²―Ä –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ βÄ™ ¬Ϊ–Γ-55¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ III ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û.–€.–Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ, –Ψ–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –±–Β–Ζ–Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―²–Ψ–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² . –û–Μ–Β–≥ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥―è–¥―è –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –£–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä–Α –¦.–ü.–Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η , –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Β―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –€–Β―Ä –û–¥–Β―¹―¹―΄ –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –™–Μ–Α–≤–Ψ―é –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β.
–ü―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β –Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –Μ–Η―Ü–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ–Η―Ü–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –ë―Ä–Α―²–Η―à–Κ–Ψ, –Δ―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι, –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ, –î–Β–≤―è―²–Κ–Ψ, –î–Β–Ϋ–Β–Ε–Κ–Ψ, –€–Α―²―Ä–Ψ―¹, –†―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Η―³–Β–Η ¬Ϊ–Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ –¦–Ψ–Ϋ―Ü–Η―Ö –Η –î–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –Φ–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, ―É―΅–Η–Μ–Η ―É–Φ―É-―Ä–Α–Ζ―É–Φ―É –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―è–Φ. –ê –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α –¦–Ψ–Ϋ―Ü―΄―Ö–Α –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Α –¥–Μ―è ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö, –Η―â―É―â–Η―Ö –Ϋ–Α―²―É―Ä: ¬Ϊ–Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β―², –Β―¹–Μ–Η –Β―ë –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨¬Μ.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–Γ-56¬Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –™.–‰. –©–Β–¥―Ä–Η–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Η –ü–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Α –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η: ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è, –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Α―è¬Μ. –ê ―¹–Α–Φ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ βÄ™ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –û –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹ ―³―Ä–Α–Ζ―É, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ–Β ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ψ―² –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α¬Μ.
–ï–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α-–Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―à―²–Α–±–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ–Φ–Β―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Β―ë –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-56¬Μ –±―΄–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―É–¥–Α―΅–Μ–Η–≤–Α, ―΅–Β–Φ –Β―ë –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-56¬Μ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Β―ë ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Ϋ–Α.
–ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ, ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –Ψ ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ―²–Ψ–Φ –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ü–Β–Μ–Α―è ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Η ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Α―é―²―¹―è –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Α―¹–Α―é―²―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―è―Ö ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –û–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤, –Α ―²–Ψ –Η ―Ü–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Β–Ι. –£ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–ü–Ψ―¹―²―É–Μ–Α―²–Ψ–≤¬Μ –ö–Ψ–Ζ―¨–Φ―΄ –ü―Ä―É―²–Κ–Ψ–≤–Α ―è –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ –Ψ–±―ä―è―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Β. –ù–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ―É–¥–Ψ–±–Ψ―΅–Η―²–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è βÄ™ ―¹―É–¥–Η―²―¨ –£–Α–Φ, –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨. –ù–Ψ ―è –±―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Ψ–Η –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Κ–Ψ–Μ―΄―Ö–Ϋ―É–Μ–Η ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Β―Ö –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ―è―Ö, –Α –ü–Α–Φ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄, –Κ–Α–Κ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –≤ –Κ―é–≤–Β―²–Κ–Β ―¹ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ.
–‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –ê―¹–Η–Κ–Β –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Β, –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Η –™–Μ―É―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ –Η –Γ–Α―à–Β –®–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Β, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Η–Ζ –ë–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä―è–Φ–Η, –¥–Ψ–Φ–Α. –Γ―É–¥―¨–±–Α ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Α –Η―Ö –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α. –½–Α―²–Β–Φ –¥–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –Γ.–€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², –¥–Μ―è ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–¥–Η–Ϋ. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Λ–Μ–Ψ―², –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η - –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η βÄ™ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, ¬Ϊ–Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Κ–Η¬Μ ―¹ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Β ―²–Ψ―΅–Κ–Η, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –±―É–¥―É―â–Η―Ö ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤. –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –ê―¹–Η–Κ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Α –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Α–Ζ–Α―Ä–Β―²–Α. –‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α 41 –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –ê―¹–Η–Κ –Β–¥–Β―² –Η–Ζ –€–Α―Ä–Η―É–Ω–Ψ–Μ―è, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄–≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι, –≤―Ä–Α―΅ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η–Κ –ü–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Η 411 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –‰.–‰. –ë―É―Ä―Ü–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―² –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –Η ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―¹ –Η―Ö –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β–Φ. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Η―Ö ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Μ–Ψ–Κ―²–Η–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ.
–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –®–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤ βÄ™ –≤―Ä–Α―΅-–Ω―¹–Η―Ö–Η–Α―²–Ψ―Ä –≤ –ë–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –ë–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Η –≤ ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α―Ö –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―² –ü–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£―¹–Β –≤―Ä–Α―΅–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è –Ω–Η―à―É βÄ™ –£―Ä–Α―΅–Η –£―΄―¹―à–Β–Ι –ö–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η –ê―¹–Η–Κ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Η –Ψ―² –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅–Η –Η –≤ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Α–Κ―²―ë―Ä―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –î–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä ―¹ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ψ–Φ βÄ™ –Ψ–Ω―΄―² –Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η, –Α –Ψ–±–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –≤―¹―ë ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―² –Κ ―¹–Β–±–Β –Ω–Α―Ü–Η–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–Φ―É, ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –≤―Ä–Α―΅ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ü–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Η, –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ß―É–Φ–Α–Κ, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –ë–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤―É―é ―Ä―É–Κ―É.
–Γ–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü. –ù–Α –≥–Η–±–Ϋ―É―â–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ö-8¬Μ –≤―Ä–Α―΅ –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Ι –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι –Ψ―²–¥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥―΄―Ö–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –ê.–ê. –‰–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –Γ–Α–Φ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–≥–Η–±. –Γ–Μ–Α–≤–Α –£–Α―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η.
–†–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η (–Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ψ) ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –Κ–Η–Ϋ–Ψ: –Ω–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –®–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –î–Ε―É–Μ―¨–Β―²―²–Α, –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α –¥`–ê―Ä–Κ, –Μ–Β–¥–Η –€–Α–Κ–±–Β―² –Η –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α–Ϋ–Α–≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Α –‰–Ζ–Β―Ä–≥–Η–Μ―¨. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Φ―É–Ε―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι, ―²–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä –ü–Β―²―è –Η–Ζ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―è –Η –≤–Ψ–Μ–Κ¬Μ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―è –®–Β–Κ―¹–Ω–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η –™–Α–Φ–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Η –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –¦–Η―Ä–Α–Φ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Η –Η –Α–Κ―²―ë―Ä―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ¬Ϊ–£ –Γ―²―Ä–Ψ―é !!!¬Μ
–€―΄, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄, ―¹–Ψ―΅―²―ë–Φ –Ζ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ―É―é ―΅–Β―¹―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Μ―é–±–Η–Φ–Β―Ü –≤―¹–Β―Ö –û–¥–Β―¹―¹–Η―²–Ψ–≤ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ö―Ä―É–Ω–Ϋ–Η–Κ ―è–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –≤ –û–±―Ä–Α–Ζ–Β –î―é–Κ–Α –†–Η―à–Β–Μ―¨–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―è―Ä–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Α–¥–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–ù–Α―à–Β–Ι –•–Β–Φ―΅―É–Ε–Η–Ϋ―΄ ―É –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ.
–Γ –ê.–£. –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Ψ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α ―¹–≤–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –ï–Φ―É ―è –Ω–Ψ―¹–≤–Β―²–Η–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ.
–£ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–Δ―Ä–Β―²―¨–Β –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –≤―Ä–Α―΅–Α ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Α–Κ―²―ë―Ä–Ψ–Φ –Η ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Ψ–Φ –™―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –†―è–±–Ψ–≤, –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ βÄ™ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –Γ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ê―¹–Η–Κ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η–Β –¥–Μ―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –ö―É―Ä―¹―΄ –Ω―Ä–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –Γ.–€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α –¥–Μ―è –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Β–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α.
–€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –¥–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Η ―³–Α–Κ―²―΄ –Ϋ–Α ―à–Α–Φ–Ω―É―Ä –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Ε–¥–Η―²–Β –Η―Ö –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α―Ö ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α.
|
|
28. –‰ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Β―²
| |
–î–Α, –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² –Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄, –Η –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Β―â―ë ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–≤–Β―΅–Κ―É, –Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β―¹―²–Η―²―¨―¹―è. –ù–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ.
–Δ―Ä―ë―Ö–Μ–Β―²–Ϋ―è―è –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Α―è –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Η–Ζ –Ω―è―²–Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –€–Α–≥–Β–Μ–Μ–Α–Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ 1522 –≥–Ψ–¥―É. –ù–Ψ –≤ –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –Γ–Α–Ϋ–Μ―É–Κ–Α―Ä-–¥–Β- –ë–Α―Ä―Ä–Α–Φ–Β–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –≤―¹–Β. –Γ–Α–Φ –€–Α–≥–Β–Μ–Μ–Α–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ϋ–Α –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Η–Ϋ–Α―Ö –≤ ―¹―Ö–≤–Α―²–Κ–Β ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –‰–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ - ¬Ϊ–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ξ.–Γ.–≠–Μ―¨–Κ–Α–Ϋ–Ψ. –‰–Ζ 265 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨βÄΠ
–£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –≤–Ψ―² –Κ–Α–Κ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Η―à–Β―² ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ:
¬Ϊ–¦―é–¥–Η ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α-–Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Α, –Ω–Ψ―²―Ä―ë–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Η –Ψ–±–≤–Β―²―à–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ, –Β–¥–≤–Α, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Φ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ―Ä―²―É, ―É―¹–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¥–≤–Β ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É. –ë―΄–Μ–Ψ –Η―Ö –Ψ–±―â–Η–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η! –™–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –û–±–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Η–Ζ–Φ–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –±–Β–Ζ–Ζ―É–±―΄–Β, –Η–Ζ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–≤―à–Η–Β―¹―è, –Η―¹―²–Ψ―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –±–Ψ―¹―΄–Β –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―΅–Η ―¹ –Ζ–Α–Ε–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–≤–Β―΅–Α–Φ–Η –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Κ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Β―â―ë –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―²―è–≥–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –Η―Ö –≤ –Ε–Α–Μ–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ.
–û―² ―²–Β―Ö –Ε–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥―Ü–Β–≤ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –€–Α–≥–Β–Μ–Μ–Α–Ϋ–Α βÄ™ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Κ–Α–±–Α–Κ–Α–Φ –Η ―²–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―ë ¬Ϊ–Φ–Β–Ε–¥―É―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ. –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω–Β―²―΄–Β –±–Β–Ζ–±–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η: –Ϋ–Η –≤ –±–Ψ–≥–Α, –Ϋ–Η –≤ ―΅―ë―Ä―²–Α –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η. –ù–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨βÄΠ –Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Β―΅–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –£–Α–Ϋ–Κ―É–≤–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥, –Κ―É–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ζ–Α –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι, –Ϋ–Α―à ―²/―Ö ¬Ϊ–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –†–Α–Ζ–Η–Ϋ¬Μ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±―è –≤–Β―¹―²–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –ê–Μ―è―¹–Κ–Η –Η –ö–Α–Ϋ–Α–¥―΄. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α–Φ, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ―ë–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ–Η –Ω–Η―Ä–Ψ–≥: –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –Α –≤ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Β―â―ë –Η –≤–Β―²–Β―Ä –¥―É–Β―², –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Β–≥–Κ–Η–Ι, –Μ–Α―¹–Κ–Α―é―â–Η–Ι ¬Ϊ–±―Ä–Η–Ζ¬Μ. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è―Ö.
–£―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –Γ–≤–Β―² –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―²–Κ–Α –Ω―É―²–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ω–Η―²–Β―Ä–Α –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Α, –Ψ―¹–≤–Β―â–Α―é―â–Β–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α-―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ ―¹–≤–Β―² –Ζ–Α―Ä–Β–≤–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Φ―Ä–Α–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨. –ö–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –±–Β–Ζ –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ (―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ) –Γ.–ü.–€―΄―à–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι. –ï–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹―É―Ö–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü―É―²–Η. –î–Α, ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è. –û―² ―É–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è –±―΄–Μ ―à–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –‰ ―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨.
–ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö-308¬Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –≤ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄ –¥–Α–Ϋ―΄, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ ―΅―ë―²–Κ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄, –Α –Η–Ϋ–Β―Ä―Ü–Η―é –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ω–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –£―Ä–Β–Φ―è –Η –£―¹–Β–≤―΄―à–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ù–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η –Ϋ–Β –≤ ―¹―É–Φ―Ä–Α–Κ–Β –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Η –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Μ–Η―à―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, –Α –≤ ―è―Ä–Κ–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Ψ―¹―²―É –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –≤–Η–¥―É ―É –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―΅―²–Ψ: –Φ–Ψ–Μ―è―â–Η–Ι―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ ―ç―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ω–Μ–Α―΅―É―â–Η–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ¬Μ –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η –Ζ–Α ―¹–Α–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―²–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨. –ù–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, ―²–Α–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Β –Μ―é–¥–Η. –£―¹―ë –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨. –ë–Β–Ζ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Η –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι.
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Θ―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―ä–Β–Ζ–¥–Α –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–ù–™ –Η –ë–Α–Μ―²–Η–Η –Φ―΄ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α¬Μ –ö–Ψ―¹―²–Η –®–Ψ–Ω–Ψ―²–Ψ–≤―É βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. (–ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α).
–Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β –ß–Α–Ε–Φ–Α, –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Β –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è, –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –¥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ¬Ϊ–ß–ü¬Μ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –ù–Ψ–≤―΄–Ι –™–Ψ–¥. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –î–Β–¥ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Γ–Ϋ–Β–≥―É―Ä–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, –Α –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ―É―Ä–Ψ―Ä ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –ù–Α –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –®–Ψ–Ω–Ψ―²–Ψ–≤―É, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Β –Γ–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Α βÄ™ –Π–Α―Ä―è –‰―É–¥–Β–Β–≤: ¬Ϊ–‰ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―ë―²¬Μ- ―΅–Β–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―²―É –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ―é―é –ù–Ψ―΅―¨.
–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α ¬Ϊ–Η–Ϋ–Ψ–≥―É―Ä–Α―Ü–Η–Η¬Μ –ö.–ê.–®–Ψ–Ω–Ψ―²–Ψ–≤–Α, ―è –Η ―É―¹–Μ―΄―Ö–Α–Μ –Ψ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ―è―â–Β–Φ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β¬Μ –Ψ―² –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–€.–Ξ―Ä–Α–Φ―Ü–Ψ–≤–Α. –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –±―΄–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Η –Ϋ–Α―à –û–¥–Β―¹―¹–Η―² –•–Β–Ϋ―è –Δ–Β―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨ ―²–Β―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι βÄ™ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –Δ–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Η–Φ. –€.–£.–¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α. –î–Α, –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ βÄ™ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –¥–Η–Α―¹–Ω–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –û–¥–Β―¹―¹―΄, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ϋ–Ψ―é –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –Β―â―ë –Η –Η–Ζ ―¹―²–Β–Ϋ ¬Ϊ–¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ.
–€–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –±―΄–Μ –±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―è –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Β –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Β –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α, –Ψ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Β –£–Ψ–Μ–Ψ―à–Η–Ϋ–Β. –û –Ϋ―ë–Φ ―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α―²―É―à–Β–≤–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Η–¥–Β―é ―ç―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α.
–· βÄî –Α―²–Β–Η―¹―², –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Κ―Ä–Β―â―ë–Ϋ―΄–Ι –Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι. –ö―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Α–Φ–Α –Η –±–Α–±―É―à–Κ–Α –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Α –‰―Ä–Η–Ϋ–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≤―²–Α–Ι–Ϋ–Β –Ψ―² –Ψ―²―Ü–Α, –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α-–≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β―Ä–Β–¥–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―³―Ä –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é¬Μ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Β―¹―²–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –¥–Α–Ε–Β –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤. –™–Μ–Α–≤–Α 13, ―¹―²–Η―Ö 18 –Ψ―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Η –Κ –Ϋ–Η–Φ: ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄. –ö –Ϋ–Β–Φ―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –Η –Κ–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―è –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–Φ, –Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. 6 –Φ–Α―è 1966 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ¬Ϊ–ö-66¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä –≤ 6 ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β.
–¦–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α ⳕ 6 –Κ –Β―ë –±–Ψ―Ä―²―É –±―΄–Μ–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–±–Α―Ä–Ε–Α ―¹ –±–Η–¥–Η―¹―²–Η–Μ―è―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Δ–ù–Δ-6¬Μ. –¦–Ψ–¥–Κ―É –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―É―²–Β―΅–Κ–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –±–Η–¥–Η―¹―²–Η–Μ―è―²–Α: –Η―¹–Ω–Α―Ä–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨. –ü―Ä–Η ―²―É―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä ¬Ϊ–ü–î–ö-6¬Μ. –¦–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η ―à―ë–Μ 6 –≥–Ψ–¥. –‰ –Φ–Ϋ–Β, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –±―΄–Μ–Ψ 36 –Μ–Β―² (6―Ö6) –±–Β–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨. –û―²―¹–Β–Κ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ, ―Ö–Ψ―²―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―é –Η–Ζ –ü―É–Μ―¨―²–Α –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –≤―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ VII –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Η―¹–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Φ VI. –†–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Η–Ζ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Μ–Ψ–±–±–Η¬Μ. –£ –Ϋ–Β–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―²–Ψ―¹―² –Ζ–Α ¬Ϊ–≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε¬Μ.
–ù–ΨβÄΠ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α: ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α ―¹–Ϋ―è―²―¨ ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –†―è–±–Ψ–≤―É ¬Ϊ–ù–ù–Γ¬Μ –Ψ―² –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –ê ―¹ –£–Α―¹–Η –™–Ψ―Ä–±–Α―Ä―Ü–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V ¬Ϊ–Κ–Α–Κ ―¹ –≥―É―¹―è –≤–Ψ–¥–Α¬Μ: ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α ¬Ϊ―΅–Β―¹―²―¨ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ―²–Α―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―΄―΅–Α–≥–Η, –Κ–Α–Κ –Η ―¹ ―²–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö-278¬Μ, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ. –ê –≤ 1970 –≥–Ψ–¥―É –≤ –ë–Η―¹–Κ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Β―²―¹―è –Η ―²–Ψ–Ϋ–Β―² –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-8¬Μ. –≠―²–Ψ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ¬Ϊ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β¬Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Β–Μ–Η: –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β―²–Η. –£–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ―Ä―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η―Ä―É―è –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≤―΄–Ι–¥–Β―à―¨ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Ϋ–Β –≥–Α―Ä―Ü―É–Ι, –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―É–¥–Α―Ä–Η―², –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―è –Ψ―¹―΄–Ω–Μ–Β―²―¹―è¬Μ. –¦–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–ΨβÄΠ ―É–Ε–Β 10 –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è¬Μ. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ω―É–≥–Α–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η¬Μ, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ–≤.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Η–Μ–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Κ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―²―è–≥–Ψ―²–Β―é―² –Κ –Ξ―Ä–Α–Φ―É.
–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ (―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Κ―É ¬Ϊ–≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄¬Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β―²), –Η―²–Α–Κ, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ϋ–Α –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Ψ–¥–Κ–Β –ö―É―Ä―¹–Κ (–ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-141¬Μ). –ê –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η, ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–≤―è―²–ΨβÄ™–ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–ΨβÄ™–€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –Η―Ö –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Β–¥―Ä.
–Γ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ―¨–Β –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Β (–Β–Ι –Η ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α –≥–Μ–Α–≤–Α). –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―é―², –¥–Α –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è. –ù–Ψ –Κ―Ä―É―²―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –•–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―²―¨ –Η –≤―΄–±–Η–≤–Α―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Μ–Η―à―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ–Η ―É–Ζ–Α–Φ–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ―΄ –Ψ―â―É―â–Α–Β–Φ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –€–Α―²―É―à–Κ–Η –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ―΄. –£ –î–Ϋ–Η –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≤ –î–Ϋ–Η –Γ–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Δ―Ä―É–¥–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ–Β–Φ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Η¬Μ –€–Α―²―É―à–Κ–Α –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ–Ψ –Η ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –û–±–Η―²–Β–Μ–Η.
–€–Α―²―É―à–Κ―É –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ―É –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Μ–Β―² 7-8 –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –€–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –î–Β–Ϋ―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä―É―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –≤ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É―²–Α–Ϋ–Β. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –½–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –ê –Ψ–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –≥―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Ψ–± –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –ü―É―²–Η –Η –Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è―Ö –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, –Α ―è –Β―â―ë –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε―É –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ¬Ϊ–Π–Η―³―Ä–Α―Ö¬Μ.
–Γ–Ϋ―è―²―΄–Ι –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―É―é, ―è ―¹―²–Α–Μ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, –Β―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η –Β―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Ψ―² –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ε–Β: ―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ.
–î―Ä―É–Ζ―¨―è –Η ―à―²–Α–±–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―è ―É–Φ―É–¥―Ä–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η ―¹ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é, –¥–Α –Β―â―ë –Η ―¹ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ. –ù–Α ―΅―²–Ψ ―è –Ζ–Α–Μ–Η―Ö–≤–Α―²―¹–Κ–Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ: ¬Ϊ–Θ–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ!¬Μ. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –≤ –±―É―Ö―²―É –ß–Α–Ε–Φ–Α, –Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ βÄî –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Φ.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α (–≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ–Μ―é―¹ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²) βÄî –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Μ: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, –±―΄–Μ–Α ―É ―²–Β–±―è –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―²–Β–±–Β –Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ!¬Μ
–‰ –Κ–Α–Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Β―Ö ―Ü–Η―³―Ä –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Μ–Ψ ¬Ϊ–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ϋ–Η–≥–Β¬Μ.
|
|
29. –½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²―΄
| |
–£ –Ω–Ψ―Ä―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ 613-–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Α―è –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ –Η ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ –Η –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―¹ –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η ¬Ϊ–Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α¬Μ, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Μ―΄–Β –¦―¨–≤–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Η –ö–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Β –ü–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η–Φ. –£.–‰.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –≤ ―²–Ψ―², –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥, –±―΄–Μ–Η –Η ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Α―Ö–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α―è –Κ―É―Ä―²–Κ–Α –Η –Φ–Α―É–Ζ–Β―Ä –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Β―¹―²―¨ –Κ –Μ–Η―Ü―É. –û –Ϋ―ë–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥―΄. –ù–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α―éβÄΠ.
–ë―É–¥―É―΅–Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–Ϋ―è―²―΄–Ι ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –î―΄–≥–Α–Μ–Ψ-―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –£.–‰. –Γ–Α―Ö–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ (–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α) –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ: ¬Ϊ–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Η –±―É–¥–Ϋ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α¬Μ. –ü―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Β―² –Κ –Β–≥–Ψ ―²–Η―²―É–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –½–Ϋ–Α―΅–Ψ–Κ ¬Ϊ–½–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥¬Μ, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ω–Ψ–Ζ–Α–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É –Φ–Β–Ϋ―è. –ï–¥–Β―² –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Η –≤ –≤–Β―¹―²–Η–±―é–Μ–Β –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Γ―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–≤ –≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤―Ä―É―΅–Α–Β―² ―ç―²–Ψ―² –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –ö–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²―É –½–Β–Φ–Μ–Η –°―Ä–Η―é –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅―É –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ―É. –Δ–Ψ―², –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β: ¬Ϊ–ß–Β–Φ ―è –£–Α―¹ –Φ–Ψ–≥―É –Ψ―²–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η―²―¨?¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–≥–Ϋ―É–≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Φ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –ü–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Γ―ä–Β–Ζ–¥–Β¬Μ. –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ―É–Β―² –Β–Φ―É –≥–Ψ―¹―²–Β–≤–Ψ–Ι –±–Η–Μ–Β―², –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ―¹–Ψ–≤―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨ ―¹ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Γ―ä–Β–Ζ–¥–Α. –ü―Ä–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–¦ –£–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –Γ–Α―Ö–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –¥–Α―ë―² ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―à–Ψ―³―ë―Ä―É: ¬Ϊ–û―²–≤–Β–Ζ–Η―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –≤–Ψ –£–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤–Ψ¬Μ. –Δ–Ψ―² –±―΄–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―ç―²–Η–Φ –Ψ―à–Α―Ä–Α―à–Β–Ϋ.
–ü–Ψ–Κ–Α –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Γ―ä–Β–Ζ–¥–Α –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Γ–Α―Ö–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –≤―¹–Β―Ö –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ß–Μ–Β–Ϋ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –€.–ù. –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Γ–Α―Ö–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Β, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ –Ψ –Γ―ä–Β–Ζ–¥–Β –Η –Κ–Α–Κ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Β–Φ―É –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ, ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―É–¥–Α―Ä. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Α–Φ –î―΄–≥–Α–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Ι –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ―É –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ―É ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ. –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Β―²–Β―²―¨ –¥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è.
–ù–Α―à –ï.–‰. –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-335¬Μ, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―è―¹―¨ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η―è –†–Α–Ι–Κ–Η–Ϋ–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–Φ―è–≥―΅–Β¬Μ. –‰ –Φ―΄ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –¥–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±–Β–Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ –¥–≤–Η–Ε–Ψ–Κ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è) –ö–Ψ–Μ―è –ö–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Β–≤: ¬Ϊ–£–Β–¥―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Α, –¥–Α –Β―â―ë ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨¬Μ. –‰–Μ–Η –Β―â―ë: ¬Ϊ–ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –ë–Ψ–≥–Α –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Β―¹―²―¨¬Μ.
–û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Φ ―΅–Α–Β–Φ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β, –Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Β–Μ–Ψ–Ζ–Η―² ―²―É–¥–Α-―¹―é–¥–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―É, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –≠―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ê –≤–Ψ―² –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―Ö–Ψ–¥–Α. –Θ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ –Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–≤–Β―¹―²–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ―², –Ζ–Α–Μ–Η―²―΄–Ι. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹ –Φ–Α―¹–Μ–Β–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹–Ψ–Φ ―²–Α–Κ –Η –¥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ –±–Α–Ζ―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–±–Β–Ζ–≤―΄–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄–Φ¬Μ. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ö–Ψ–Μ―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―² –Η –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Φ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β―Ü –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η, –Η ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–î–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Α ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è¬Μ. –‰ ―²―É―² –Ε–Β ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ―É: ¬Ϊ–£–Ϋ–Η–Ζ!¬Μ βÄ™ –ù–Β –¥–Α–≤ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Κ―É―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β.
 –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –î–Α–Ε–Β –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥–Α –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β ―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ―â―É―â–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β.
–½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –î–Α–Ε–Β –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥–Α –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β ―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ―â―É―â–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β.

|
|
30. –î–Β–¥
| |
–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö –ë–ß-V –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α―²―¨ –£–Α–Φ –Η –Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –ë–ß-V –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –±–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –£―΄―¹―à–Η―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –û–¥–Η–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Γ―²–Α―¹ –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤, ―É–Ε–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –ë–ß-V 613-–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α–≤ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Η–Μ–Ψ–Ι. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Η –Γ―²–Α―¹ –Ϋ–Α ¬Ϊ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Κ–Β¬Μ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –Γ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Φ–Β―Ö–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –£―΄―¹―à–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―à–Μ–Α –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É–Φ–Ψ–≤, –Α ―²–Ψ –Η ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –‰ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―², –Α ―²–Ψ –Η –Κ–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η: ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–≥–Ψ, ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α, –Φ–Ψ–≥ ―¹―²–Α―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, 50 –Μ–Β―² –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –≤ –Ψ–±–Η―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β –Η –≤–Ϋ–Β –Β–≥–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ–¥–Β–¥–Α–Φ–Η¬Μ. –î–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –≤―΄―¹―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Α―Ä–Φ–Β―Ö–Α–Φ–Η –¥–Ψ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Ψ–Ε–Β ¬Ϊ–¥–Β–¥―΄¬Μ. –Δ–Α–Κ ―É–Ε –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨.
–Γ–Ψ –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –®–Κ–Α–Ω–Η–Ϋ―΄–Φ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²/―Ö ¬Ϊ–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –†–Α–Ζ–Η–Ϋ¬Μ. –£–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―É –Η–Ζ –ö–Α–Ϋ–Α–¥―΄. –ü–Ψ–Ω–Α–≤ –≤ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ ¬Ϊ–Φ–Η–¥–Β–Μ―é¬Μ. –ü–Α–Μ―É–±–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Ω―è―²–Η ―¹–Α–Ϋ―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ψ―² ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α –Η ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –ü–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –€–Η–¥―É―ç–Ι. –ù–Ψ ―²–Α–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –Γ–®–ê, –Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –‰ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à―ë–Ϋ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ ―²–Α–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η: –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–Μ–Η ¬Ϊ–±―Ä–Ψ–Ϋ―è–Ε–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ ―è βÄ™―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―², ―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Η–Ζ –±–Β–Ζ–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Γ―Ä–Ψ–Κ–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –†–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –±–Β–Ζ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –≥―Ä―É–Ζ–Α –Η–Ζ ―²―Ä―é–Φ–Α. –‰ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ¬Ϊ–¥–Β–¥―ɬΜ.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Η―²―è–Ϋ–Β –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. ¬Ϊ–î–Ε–Η–Ω¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ―΄ –Β―Ö–Α–Μ–Η ―¹ –≤–Η–Ζ–Η―²–Ψ–Φ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ–ê–Μ―¨–±–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤¬Μ. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―΅–Α–Ι–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Α―Ä–Η―²―¨ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β, –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –≤–Ζ–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–≤ –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ–Φ. –≠―²–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω―΄ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―É―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²―è―Ö –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Η–Φ–Β―é―² ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Β–Φ―É―é –Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Κ―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ–Α―è¬Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤ –≥–Ψ―Ä―΄ ¬Ϊ–Λ―É–¥–Ζ–Η―è–Φ–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―è –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―²–Ψ–Ε–Β.
–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ¬Ϊ–¥–Β–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é (–Φ–Ψ―è ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α ―¹ –Ϋ―É–Μ―è –¥–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö) –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―É ―à–Α―Ä–Κ–Α―é―â–Η–Β –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö ―²–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α―Ö ―à–Α–≥–Η ―¹―²–Α―Ä–Φ–Β―Ö–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―Ä―É–±–Κ―É –Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Φ ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ–Β–Φ ¬Ϊ–Φ–Α―Ä–Α–Κ―É–Β―²¬Μ –Ω–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Β –Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι ―²–Α–Μ–Φ―É–¥. –ê –Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Η–Μ―é. –‰–Μ–Η –Β―â―ë. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ¬Ϊ–¥―ë―Ä–≥–Α–Β―²¬Μ ―Ä―É―΅–Κ―É –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Α, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Κ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―²―¹―è. –ù–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β ―¹–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Μ―é–Κ–Ψ–≤ –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É ―¹―²–Ψ–Η―² ―¹―²–Α―Ä–Φ–Β―Ö –Η –¥–Μ―è ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Α―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ―É, ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Α―Ö.
–£ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –†–Η―à–Β–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Β―¹―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Α―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è. –ï―ë –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²―¨ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Η―Ö: –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –‰ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―²–Α–Φ –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β ¬Ϊ–¥–Β–¥¬Μ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ. –€―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ―¹―è. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Η–Κ―É ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Ψ―²–±–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Μ―è–Ϋ–Κ–Η, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Β–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β–Φ―¹―è –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Α–Κ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Ψ –±―΄–Μ–Ψ–Φ. –ê –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Β―¹―²―¨ –Ψ ―΅―ë–Φ.
|
|
31. –½–Β–Φ–Μ―è
| |
–ü–Ψ–≥―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–≤―É―é ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ―É―é ¬Ϊ–Α―É―Ä―É¬Μ, ―è –≤―¹―ë –Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Φ–Η–Φ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ¬Ϊ–ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –±―É―Ä–Μ–Η―² –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α ¬Ϊ–½–Β–Φ–Μ–Η, –Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Ζ–Β–Φ–Μ―è –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–Φ?¬Μ –· ―¹―É–≥―É–±–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, ―è –Ω–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–Ψ –≤―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¹―è –≤ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―é. –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―è –≤―¹―é ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Β―â–Α–¥–Ϋ–Ψ ―É―Ö―É–¥―à–Α–Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β. –ù–Β –≤―¹–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―΄ ¬Ϊ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É–¥–Α―ë―²―¹―è ―É―²–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –£–Ζ―è―²―¨, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄, –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Η–Ζ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α―é―â–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―³–Ψ–Ϋ–Α (―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–ΨβÄΠ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η). –ö–Ψ–Φ–Ω―Ä–Β―¹―¹–Ψ―Ä, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β (―ç―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―â–Η―²―΄), ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―² –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ―΄. –‰–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ –≤―΄―²―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ 100 –Φ–Η–Μ―è―Ö –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –≤ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –Η–Μ–Η –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω―É―΅–Η–Ϋ―É.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 100-200 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≤–Η–Ϋ―²–Α–Φ–Η –≤ 40 ―²―΄―¹―è―΅ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Α–Μ―΄–≤–Α–Β―² –≤―¹―ë –Ε–Η–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω―É―²–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―¹–Α–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–¥―É.
–€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α –Κ–Η―²–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Ω–Μ–Α–Ϋ–Κ―²–Ψ–Ϋ–Α. (–ë―É–¥―É –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―²―¨ βÄ™ –¥–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² ¬Ϊhomo sapiens¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Κ–Α–Μ–Β―΅–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α!!!)
–ù–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η ―è, –Ψ–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η–Μ―¹―è –Η –≤–Ω–Α–Μ –≤ –¥―Ä―É–≥―É―é –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –Ω―²–Η―΅–Β–Κ, ―Ä―΄–±–Ψ–Κ –Η –Ζ–≤–Β―Ä―é―à–Β–Κ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ, –¥–Α, –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ–Φ–Ψ C–Α–Ω–Η–Β–Ϋ―¹–Α, –Ψ–Ζ–≤–Β―Ä–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι, –±–Β–Ζ–¥―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Η ―Ä―É―΅–Β–Ι–Κ–Ψ–≤, –Η ―Ä–Β―΅―É―à–Β–Κ, ―¹–Ψ―²–Ϋ―è–Φ–Η, –≤―΄―¹―΄―Ö–Α―é―â–Η–Φ–Η –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η.
–£–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η¬Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –™―É―Ä–≤–Η―Ü, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è –Β–Ι –Η –Ψ―³–Η―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Α.
–ê ―É–Ε–Β –≤ –î–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –°–±–Η–Μ―è―Ä–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Α –™―É―Ä–≤–Η―Ü–Α –≤ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –€–Β―Ä–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹―²―¨ –Κ ―Ä―É–Κ–Β¬Μ. –ë―΄–Μ ―²–Α–Φ –Η ―è, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―é –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤: –≤―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Κ–Α–Κ, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹. –‰ –≤–Ψ―² –Η–Ζ –¥–≤–Β―Ä–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –‰–Μ―¨–Η―΅ –ö―É―΅―É–Κ - ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Α―è ―Ä―É–Κ–Α¬Μ –Φ–Β―Ä–Α. –· ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É: ¬Ϊ–€–Η―à–Α! –Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Μ–Η―Ü ―è –Ϋ–Β –≤–Η–Ε―É ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η¬Μ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Β–±―è –Η ―²–Β–±―è¬Μ. –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–ï―¹―²―¨ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ βÄ™ –£–Α―Ä–Ψ―Ö–Α–Β–≤!¬Μ –ê–Ϋ–Α-―²–Ψ–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ―ç―Ä–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, 1+2 βÄ™ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –€–Β―Ä―É –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹–Α–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―²―΅–Η–≤―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ –Η –≤ –±―É–¥―É―â–Η―Ö ―Ä–Β-―à–Β–Ϋ–Η―è―ÖβÄΠ
–½–Α―²–Β–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ¬Ϊ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η¬Μ –Ω–Ψ―à–Α–≥–Ψ–≤–ΨβÄΠ. –î–Ψ–Φ –Θ―΅―ë–Ϋ―΄―Ö, –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ê–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–Φ –Θ―ë–Φ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι (–Ϋ–Α –Η–Ζ–Μ―ë―²–Β) –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―² –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë ―²―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ―à–Β–Μ―ë–Κ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ.
–ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Β, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―΄―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η.
 –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ―É–Ε–±―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α. –· –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –£―΄―¹―à–Β–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β.
–€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ―É–Ε–±―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α. –· –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –£―΄―¹―à–Β–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β.
–Γ–Β–Φ―¨―è –Ψ―²―Ü–Α ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ –Γ–Α―à–Β–Ι –Η–Φ–Β–Μ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Ε–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è βÄ™ –¥–Β–≤―è―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β. –‰–Φ–Β―è –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É, ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –Ψ―²–Β―Ü –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ 30 ―¹–Ψ―²–Ψ–Κ ¬Ϊ–½–Β–Φ–Μ–Η¬Μ.
–ù–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α ―è ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄ™ ¬Ϊ–½–Β–Φ–Μ―è¬Μ –≤ ―É–Φ–Β–Μ―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –Θ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Β―¹―²―¨ –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –¥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η―²―¨ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι¬Μ. –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤ –ù–Α―à–Β–Ι ¬Ϊ–ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨: ¬Ϊ–ê –Ψ–Ϋ, ―¹―²–Α–≤ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η, –¥–Α–Ε–Β –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ, –Η ―¹–Ψ–±–Α―΅–Β–Ι –±―É–¥–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨¬Μ. –û―²–Β―Ü –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–±–Α―΅―¨―é –±―É–¥–Κ―É ―¹ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―²–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η-–Μ–Α–Ι–Κ–Η ―¹ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Η―΅–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–†―É–Φ–±¬Μ, –Ϋ–Ψ –Η –Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Α–Ϋ―¹–Α―Ä–¥–Ψ–Ι –Η ―¹–Ψ–Μ―è―Ä–Η–Β–Φ. –ù–Α–¥ –Ω–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä―É–±–Ψ–Ι ―³–Μ―é–≥–Β―Ä βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹ ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –±―É–Κ–≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Β―²―Ä–Α: North-South, –ûst-West. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –¥–Β―Ä–Β–≤–Α βÄ™ –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Η–Μ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Γ–Α–¥, –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –≤–Η–¥―΄ ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤―΄―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤ ―é–≥–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≥―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Ψ―Ä–Β―Ö. –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Ι, ―²–Α–Κ –Η –≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 900 –Μ–Η―²―Ä–Ψ–≤ ―¹―É―Ö–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Β –≤ 100 –Μ–Η―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―É―²―΄–Μ―è―Ö. –ü–Ψ–Μ–Κ–Η ―¹―²–Β–Μ–Μ–Α–Ε–Β–Ι –Μ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Ψ–Κ¬Μ ―¹–Α–¥–Α –Η –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ü–Β―Ä―¹–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É 3-―Ö –Μ–Η―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –±―É―²―΄–Μ–Β–Ι.
–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –û–Α–Ζ–Η―¹–Β ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, ―à–Α–≥–Α―è –Ω–Ψ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ¬Ϊ―É ―΅―ë―Ä―²–Α –Ϋ–Α –Κ―É–Μ–Η―΅–Κ–Α―Ö¬Μ. –‰ –¥–Β―²–Η –Φ–Ψ–Η, –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Α –Η –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α, ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –£–Β―¹–Ϋ―΄ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Ι –û―¹–Β–Ϋ–Η –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β βÄ™ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β. –ö–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Α –½–Β–Φ–Μ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α ―¹ –Ψ–Ω–Α―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Μ–Μ–Β―Ä–≥–Η–Η –Ψ―² –Κ–Μ―É–±–Ϋ–Η–Κ–Η, –Β―â―ë –Η –≤ –¥–Β―¹―è―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α―Ö –Ω–Μ―è–Ε–Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Λ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ–Α.
–û―²–Β―Ü –Φ–Α―¹―²–Β―Ä –Η ―É–Φ–Β–Μ–Β―Ü ¬Ϊ–Ϋ–Α –≤―¹–Β ―Ä―É–Κ–Η¬Μ. –£ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –¥–Ψ–Φ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ―â–Η–Κ–Η-–Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹―²–Β–Ϋ―΄, –Α –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β: –Η ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä–Ϋ―΄–Β, –Η –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄: –Ω–Ψ–Μ―΄, –¥–≤–Β―Ä–Η, –Ψ–Κ–Ϋ–Α, ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ―¹–Α―Ä–¥―É βÄ™ –Φ–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Η―¹―²―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―à―²―Ä–Η―Ö βÄ™ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄. –î–Μ―è –Ψ―²–Κ–Α―΅–Κ–Η –Η―Ö –±―΄–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –≤–Ψ–¥―΄ –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Η.
–€―΄ ―¹ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ –Β–Φ―É –Η ¬Ϊ–≤ –Ω–Ψ–¥–Φ―ë―²–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η–Φ―¹―è. –£–Ψ–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–≤―Ä–Β–Φ―è–Ϋ–Κ–Α¬Μ ―¹ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ–Φ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ë―΄–Μ –¥–Α–Ε–Β –Φ–Η–Ϋ–Η ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ (–Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι). –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –ï–≥–Ψ –≤–Ϋ―É–Κ –ü–Α–≤–Β–Μ ―É–Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –‰–Φ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –î–Β–¥–Α, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨-–Ϋ―΄–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―Ö–≤–Α―²–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨, ―¹ ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ βÄ™ ¬ΪβÄΠ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –½–Β–Φ–Μ―è –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–Φ¬Μ.
–Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–½–Β–Φ–Μ―è¬Μ ―¹ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ï―â―ë –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Λ–Β―Ä–Ϋ–Α–Ϋ–Α –€–Α–≥–Β–Μ–Μ–Α–Ϋ–Α –Η –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹–Α –ö―É–Κ–Α ―³–Ψ―Ä-–Φ–Α―Ä―¹–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, –Β–¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–≤ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―΅–Β―Ä―²–Α–Ϋ–Η―è, –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―΅―²―΄: ¬Ϊ–½–Β–Φ–Μ―è-―è-―è-―è!¬Μ. –ß―²–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥ –Η –Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Α―²–Η–Η. –‰ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η βÄ™ ¬Ϊ–ë–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–£–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–î―Ä–Β–≤–Ϋ―è―è¬Μ, ¬Ϊ–€–Η–Μ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–€–Η―Ä–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–û―²―΅–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–†–Ψ–¥–Η–Φ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–†–Ψ–¥–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è¬Μ, –Η ―².–¥. –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Κ―É–Ω–Μ―è-–Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Α¬Μ?!!! –†–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ¬Ϊ–†–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β¬Μ –Η ¬Ϊ–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β¬Μ!!!
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α. –ü―Ä–Α–≥–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β βÄ™ ¬Ϊ–½–Β–Φ–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η―Ü–Α¬Μ. –· –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²–Β–Μ―è –Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ –≤–Ϋ―É–Κ–Α –ü–Α–≤–Μ―É―à–Η. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Β―â―ë ¬Ϊ–½–Β–Φ–Μ―è¬Μ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ–¥―΄. –ê –Μ–Β―¹–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –ù–Α―à –£–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ –¥―΄―à–Η–Φ. –‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Α–Μ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Α–Ε–Η–≤–Β, –Κ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η.
–ü–Ψ–¥―΄―²–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≠–Φ–Φ–Α–Ϋ―é―ç–Μ–Β–Φ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Ψ France Presse. –‰–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Η–¥–Β―Ä –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –≤ –ï–Μ–Η―¹–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η.
¬Ϊ–· ―¹―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Φ–Η―²–Ψ–Φ G7 –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Α–Μ–Η―Ü–Η–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄¬Μ, βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²―É ―²–Β–Φ―É –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Φ–Η―²–Β G7, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨―¹―è 24βÄ™26 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –≤ –ë–Η–Α―Ä―Ä–Η―Ü–Β.
–€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–Ζ–Α―Ä–Ε–Α–≤–Β–Μ–Α¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η. ¬Ϊ–ê ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η ―¹–Ψ―à–Β–Μ ―¹ ―É–Φ–Α βÄ™ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ ―²–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α, ―É―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η¬Μ, βÄ™ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ.
–€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η, –Ψ–Ϋ –≤ 2008βÄ™2011 –≥–≥. ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä–Ψ–Φ, –Α ―¹ 2011 –Ω–Ψ 2012 –≥. –±―΄–Μ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Φ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –ë–Α–Ϋ–Κ–Α –†–Ψ―²―à–Η–Μ―¨–¥–Α. –Γ 2014 –Ω–Ψ 2016 –≥. –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―² –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Ψ ―΅―ë–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―².
|
|
32. 9 –Μ–Β―² –Ϋ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α
| |
–û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 10 –Η―é–Μ―è 1940 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –≤ –±―É―Ö―²–Β –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –ï–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―è ―¹―΄–Ϋ–Α –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ ―²―É ―¹–Α–Φ―É―é –±―É―Ö―²―É, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―É–Ω―Ä―É–≥―É –ï–Μ–Β–Ϋ―É –¦–Β–Ψ–Ϋ―²―¨–Β–≤–Ϋ―É, –Φ–Α–Φ―É –û–Μ–Β–≥–Α: ¬Ϊ–ù―É, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―à―¨―¹―è, –Ψ–Ϋ –Ε–Β –Ϋ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –Μ–Β―²–Η―²¬Μ. –î–Α, ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ψ―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö.
–î–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Η ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β, –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Β, –Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –≤ –Α―É―Ä–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Α. –î―Ä―É–Ε–±–Α, –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Η–Β, –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Μ–Ψ–Κ―²―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹―²–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ―΄ –≤–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –≥―É–±–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²―¹―²–≤–Α –û–Μ–Β–≥–Α –≤–Μ–Β–Κ–Μ–Ψ –≤ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É –Ψ―²―Ü–Α. –û–Μ–Β–≥ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤―¹–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β ―²–Η–Ω―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Ψ–Η, ―²–Α–Κ –Η –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Β: –Η―Ö –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η ―¹–Μ–Α–±―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Α–≤–Η–Α–Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ. –ù–Β ―É–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Η ―¹ –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Β―²―΄. –ù–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―΅―²–Β –û–Μ–Β–≥–Α –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨―¹―è. –‰ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ―É―à–Α–Μ –Φ―΄―¹–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –û―²–Β―Ü ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η. –ê –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –û–Μ–Β–≥, ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –û―²–Β―Ü ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ. –ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―΄–Ϋ―É –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ –Η―Ö –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–†–Β―à–Α―é―â–Η–Φ –≤ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –≤―΄―¹―à–Β–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Φ. –ê ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Μ―é–±–Η–Μ. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è: ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹ –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é, –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β ―¹–¥–Α–Μ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –≤ –£―΄―¹―à–Β–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –ü–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ―¹―è –≤ –ë–Α–Κ―É –£―΄―¹―à–Β–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –½–Α―²–Β–Φ ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£―΄―¹―à–Η–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –ö–Μ–Α―¹―¹―΄ (–£–û–¦–Γ–û–ö), –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η–Φ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α (―¹ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Φ). –‰ –Κ–Α–Κ –≤–Β–Ϋ–Β―Ü βÄî ―¹ –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α. –ê –±―É–¥―É―΅–Η –Β―â–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Ζ–Α–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ê–Μ–Φ–Α-–ê―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –ü–Ψ–Μ–Η―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η–Κ–Α –Η ―²–Β–Μ–Β–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α. –£ –ê–Μ–Φ–Α-–ê―²–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Η –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄. –ß―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ βÄî ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –û–Μ–Β–≥ –Μ―é–±–Η–Μ.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é, –Ψ―²―Ü―É –û–Μ–Β–≥–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ ―¹―΄–Ϋ–Α ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Β –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ. –ù―É, –Α –¥–Β―²―¹–Κ–Α―è –Φ–Β―΅―²–Α –≤―¹–Β –Ε–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η ¬Ϊ–Ϋ–Α–Κ–Α―²–Α–Μ―¹―è¬Μ –≤―¹–Μ–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ö –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –ê–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤¬Μ: –Ϋ–Α ¬Ϊ–Γ―É-27¬Μ (―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨-–±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ), ¬Ϊ–Γ―É-25¬Μ (―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Η–Κ), ¬Ϊ–€–Η–≥-29¬Μ (–Μ–Β–≥–Κ–Η–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨) –Η –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ö (–Ϋ–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö-29¬Μ, –Ϋ–Α –ü–¦–û ¬Ϊ–ö-27¬Μ).
–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –≤―¹―é ¬Ϊ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ, ―΅―²–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é―² –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö, ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö: –≤–Ζ–Μ–Β―² –Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –≤–Η―Ä–Α–Ε–Η –Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤; –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Β–Μ–Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –î–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ë–Δ–†-80, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ―΄–≤―É―² –Κ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Α –Β―â–Β –Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―é―². –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Β–±―è ―ç―²–Ψ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ.
–‰ –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ―¹―è –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ. –≠―²–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Η –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –û–Μ–Β–≥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―É―é –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―é ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α ¬Ϊ–€–Α―¹―²–Β―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α¬Μ. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö, –Η –Α–≤―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –Κ–Ψ―²–Μ–Α―Ö –Ω–Α―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω–Ψ –Ψ―΅–Η―¹―²–Κ–Β ―²―Ä―É–±–Ψ–Κ –Ψ―² –Ϋ–Α–Κ–Η–Ω–Η –Η ―Ä–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ―΄ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ö ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω―É―²―¨ –Η–Ζ ―²―Ä―é–Φ–Α –Κ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ―É. –ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è.
–£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η, ―ç―²–Η ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η, –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β –û–Μ–Β–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α:
–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―²
–ü–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–ß-I ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-4¬Μ;
–ü–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≠–ù–™ –ë–ß-I –ü–¦ ¬Ϊ–ö-50¬Μ;
–ö–Γ–Λ –Η –ö–Δ–û–Λ
–ü―è―²―¨ –Μ–Β―² - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-I –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ;
–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²
–û–¥–Η–Ϋ –Φ–Β―¹―è―Ü - –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-116¬Μ;
–î–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α - –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ;
–Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-451¬Μ;
–ß–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –®―²–Α–±–Α 25 –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ü–¦ –ü–¦;
–î–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 45 –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ü–¦;
–Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –®―²–Α–±–Α 2-–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –ü–¦ –ü–¦;
–ù–Α –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Λ–Μ–Ψ―², –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Α―²: –Γ–Λ (–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―²), –Δ–Λ (–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²), –ë–Λ (–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²), –ß–Λ (–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²). –Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –±―΄―²―É–Β―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α: –Γ–Λ βÄî ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―²¬Μ, –Δ–Λ βÄî ¬Ϊ–Δ–Ψ–Ε–Β –Λ–Μ–Ψ―²¬Μ, –ë–Λ βÄî ¬Ϊ–±―΄–≤―à–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²¬Μ, –ß–Λ βÄ™ ¬Ϊ–ßi –Λ–Μ–Ψ―², –ßi –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è¬Μ.
–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―². –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤:
–Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι 1 –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι;
–î–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –®―²–Α–±–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α;
–Γ–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² βÄ™ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
–Δ–Ψ –Β―¹―²―¨. –î–Β–≤―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α
–£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Γ–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Β―¹―É―â–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Β –Α–≤–Η–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹ –Ϋ–Β–Ι ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ –£―΄―¹―à–Β–Φ―É –½–Ϋ–Α–Κ―É –û―²–Μ–Η―΅–Η―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –Η –™–Β―Ä–Ψ―è–Φ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η: –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η: –Δ–Η–Φ―É―Ä –ê–Ω–Α–Κ–Η–¥–Ζ–Β (–≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ω―Ä–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η), –‰–≤–Α–Ϋ –ë–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –€–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η ―è―Ä–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α.
 –‰ –Β―â–Β, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ –Ω―É―²―¨.
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β ―¹–¥–Α–Ϋ―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Φ–Α–Φ–Α –û–Μ–Β–≥–Α, –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ―²―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―΄–Ϋ–Α –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η. –ù–Α ―΅―²–Ψ –±―É–¥―É―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Β―Ü –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–¥–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η―²―¨ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Β–Φ―É, –Α –Ϋ–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η.
–‰ –Β―â–Β, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ –Ω―É―²―¨.
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β ―¹–¥–Α–Ϋ―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Φ–Α–Φ–Α –û–Μ–Β–≥–Α, –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ―²―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―΄–Ϋ–Α –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η. –ù–Α ―΅―²–Ψ –±―É–¥―É―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Β―Ü –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–¥–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η―²―¨ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Β–Φ―É, –Α –Ϋ–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η.
–‰―²–Α–Κ, –Ψ–± –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β. –ü–Ψ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²―É. ―².–Β. –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ω–Μ–Α–≤―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–¦ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η–Β –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β (–£–û–¦–Γ–û–ö). –ù–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α–Φ–Η, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β 8 –Μ–Β―² –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η (―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι) βÄ™ 3 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η 5 –Μ–Β―² ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –±―΄–Μ–Η –Η –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç–≥–Ψ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è –Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―² –Ω―Ä–Η ―¹–Β–±–Β ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―².–Β. ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥–Ψ–Κ¬Μ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α―è –Η–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―¹ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –ù.–‰. –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―É. –ù–Α –Φ–Ψ―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―É―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–û–Ϋ, ―΅―²–Ψ –£–Α–Φ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ?¬Μ –· –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β ―¹―É–Φ–Ϋ―è―à–Β―¹―è: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è, –£–Α―¹ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨¬Μ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η.
–‰ ―è –Κ–Α–Κ –≤ –≤–Ψ–¥―É –≥–Μ―è–¥–Β–Μ. –û–Μ–Β–≥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―΅–Β–±―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Η –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰ ―¹―²–Α–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –Γ–Α–Φ―΄–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
–ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –û–Μ–Β–≥ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–ΦβÄΠ –≠―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄, ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ü–Η–Κ―É–Μ―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É: ¬Ϊ–ù–Α–¥–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨¬Μ. –ê –Ψ–Ϋ –≤ –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–· ―É–Ε–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ¬Μ. –· –Β–Φ―É –Β―â–Β: ¬Ϊ–ê ―ç―²–Ψ?¬Μ. –û―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–‰ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ¬Μ. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ!!!
–ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α ―¹ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É, –≤ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η. –‰–¥–Β―² –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β―é –Κ―Ä―΄―à–Κ―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é ―²–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η―è–Φ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Κ–Β¬Μ, –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ–Ψ –≤ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β, –≤―΄―¹―É–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É: –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥―΄―Ä―΅–Α―²―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ε―É―Ö –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Β. ¬Ϊ–ß–ü¬Μ !!! –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α–Φ –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α. –Δ―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ ―¹―²–Ψ–Η–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ –™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 1. –£―¹–Β –¥―É–Φ–Α―é―²?! –ù–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ βÄ™ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –ü–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ―É –ê–Κ―²–Η–≤―É. –€–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –≠―²–Ψ―² –Λ–Ψ―Ä―É–Φ. –· ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ: ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α, –Ω–Ψ–Φ–Η–Μ―É–Ι―²–Β, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Η―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹ ―²–Ψ―Ä―΅–Α―â–Β–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ι¬Μ. –ê –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–û―¹–Μ―É―à–Α–Β―à―¨―¹―è βÄ™ –ü–Α―Ä―²–Η―è ―²–Β–±―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β ―²–Β–±―è –Η ―É–±–Β―Ä–Β―²¬Μ. –‰ ―è –Η–Ζ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι: –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ,- ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η –≤ –£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β, ―¹–Ψ―à–Β–Μ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, ―è ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Η–Ε―ÉβÄΠ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Α. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ III ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≤–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –±―É–Μ―¨–¥–Ψ–Ζ–Β―Ä–Β ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Α–Μ ―¹–Ϋ–Β–≥. –· –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –¥–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―ɬΜ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Β–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Η―Ä―¹–Ψ–≤ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α –≠.–ü. –ö–Η–Φ–Α.
–£–Ψ―² –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –û–Μ–Β–≥ –Η –≤―΄–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―²―¹―è –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α–Φ–Η. –ü–Α–Φ―è―²―É―è –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ, ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ.
 –ê ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Η–Φ–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –î–Ε–≤–ΒΧ¹―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Γ―²–Β―³–Α–Ϋ―É –ö–Α–Ζ–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Φ―É-–Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β.
–ê ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Η–Φ–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –î–Ε–≤–ΒΧ¹―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Γ―²–Β―³–Α–Ϋ―É –ö–Α–Ζ–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Φ―É-–Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β.
–‰ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―à―²―Ä–Η―Ö, –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.
–Γ―²―Ä–Α―²–Β–≥ ¬Ϊ–ö-171¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ë―Ä―΄―΅–Κ–Ψ–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α –≤ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² ―¹ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –±–Α–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–≥–Ψ –Η –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α βÄ™ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―à―²–Α–±–Α 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―Ä―΄, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ βÄ™ 2/3 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –‰ ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α―Ö―²–Β ¬Ϊ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ¬Μ. –ê ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η–≤, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–¥–Α. –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Α―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ζ–Α ―²―Ä–Η–¥–Β–≤―è―²―¨ –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –ù–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α.
–ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Η, ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –¥–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ. –Ξ–Ψ―²―¨ –Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –£–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ü―Ä–Η―¹―è–≥–Β –≤―¹–Β –Ε–Β –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―².
–£ –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –û–Μ–Β–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α ―É–Ε–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ―΅―É–±–Α–Ι―¹―΄¬Μ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ –Ψ―² ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –±–Α–Ζ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―²–Ψ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Β―â–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤―΄–Φ: –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω –Κ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ ―ç―²–Η―Ö ¬Ϊ―΅―É–±–Α–Ι―¹–Ψ–≤¬Μ.
–‰ –Β―â–Β –Β–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É―é―â–Η–Β. –‰–Φ–Β–Β―² –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Κ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Β–Φ―¨―é –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α –Β–≥–Ψ ―¹―΅–Β―²―É 15 –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±. –î–≤–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―΄ ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―² –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 45 –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ü–¦. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ 1981 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β 269 ―¹―É―²–Ψ–Κ. –ê –≤ –Β–≥–Ψ –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –Γ.–™. –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Β–Φ―É –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–î–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β¬Μ.
–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ βÄ™ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –ù–Α―É–Κ, –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ
–€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –‰–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η (–Ϋ–Β –Ζ―Ä―è –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ê–Μ–Φ–Α-–ê―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –ü–Ψ–Μ–Η―²–Β―Ö), –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –£―΄―¹―à–Η–Φ–Η –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.
–£ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Α―Ö –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è. –û–¥–Ϋ–Ψ–Μ―é–±, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö. –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β –¥–Μ―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Α –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² –Μ―É–Κ–Α–≤–Ψ–≥–Ψ. –Θ –Β–≥–Ψ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β βÄ™ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–ù–Η―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ¬Μ. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ―¨: ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α¬Μ. –‰ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ê –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―²?¬Μ. ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–ΚβÄΠ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α¬Μ βÄ™ –±―΄–Μ –Ψ―²–≤–Β―². –ü―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –û–Μ–Β–≥ –Μ–Β―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄¬Μ, ―²–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ―¨: ¬Ϊ–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ¬Μ. –ê –≤ –Φ–Ψ–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Α–Κ–Η–Β ¬Ϊ–Α–Φ–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–Β―²―è–Ϋ―É―²―΄–Β –Κ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Φ–Ϋ―è–Φ–Η, –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –£―¹–Β –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –±–Ψ–≥–Α―² ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ(!). –Γ―²–Ψ–Η―² –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ―É, –Κ–Α–Κ –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ ¬Ϊ–Α–Φ–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–Β―²―è–Ϋ―É―²―΄–Β –Κ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Φ–Ϋ―è–Φ–Η, –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ζ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η¬Μ.
–· –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ψ―² ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η. –£―Ö–Ψ–Ε―É –≤ –Κ–Ψ–Μ–Β―é ―¹ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ 2 ―΅–Α―¹―²–Η ¬Ϊ–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ¬Μ, –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Β –Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η.
¬Ϊ–£ 1980 –≥–Ψ–¥―É –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –û.–ê., –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –î–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α 25-–Ι –î–Η–ü–¦, –Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Φ 45-–Ι –î–Η–ü–¦, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Β―â–Β –≤ 1966 –≥–Ψ–¥―É. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ―Ä–¥–Β–Β–≤.
–ü–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α: –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹–Ε–Α―²―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ–±―É―΅–Α―²―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Α ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è, –≤ –¥–Ψ–±–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ–Β, –≤ –Ϋ–Α―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Κ―à–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Α―Ö, ―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Ι ―â–Β―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―â–Β–Κ–Α―Ö. –ö–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Ζ–Α–±―΄―²–Α―è –Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²―É―Ö―à–Α―è –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹–Α, –Ω―Ä–Η―¹–Ψ―Ö―à–Α―è –≤ ―É–≥–Μ―É ―Ä―²–Α. –û–Ϋ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –≤ ―à―²–Α–±–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α 20-30 –Φ–Η–Ϋ―É―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –¥–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è βÄî –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ. –‰ ―²–Α–Κ –Φ–Β―¹―è―Ü–Α–Φ–Η...¬Μ (―Ü–Η―³―Ä―΄ –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α: 267 –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η–Ζ 365 –¥–Ϋ–Β–Ι βÄ™–Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥ βÄ™ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α).
–û―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―à―²–Α–± 45-–Ψ–Ι –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Η–Μ―¨ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―Ö.
–≠―²–Η–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Η―²–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ–Η –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ―³–Η―²–Η–Μ–Η¬Μ –Η –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ―è―Ö –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―É–¥–Μ–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤―΄―Ö.
–î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Η –Μ―é–±―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η–Φ–Η –Μ–Η–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α, –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―²–Α–Κ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≤ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ, –¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η―â–Β.
–ü–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ―É, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―é―²―¹―è, –Α –Η–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è. –‰ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ. –ü―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―² –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–Δ―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ–±―â–Β―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Η, ―΅―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α.
–ï―¹–Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ―²―É, ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―à–Μ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι: –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄ –Η –Κ–Α–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ―΄ –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Β–Ι, ―¹–≤―è–Ζ―¨―é –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ù–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±. –ù–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ–Β –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä―É–≥–Α―Ö –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–€–Λ, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –Ψ―² –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–¥–Α―²―¨ ¬Ϊ―΅―É–¥–Α¬Μ, ―¹―²–Ψ–Η―² –Β–Φ―É –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―ç―²–Ψ ¬Ϊ―΅―É–¥–Ψ¬Μ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Β–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ―΅―É–¥―ɬΜ.
–£ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α–Φ–Η –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, ―¹―²–Α–Μ–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―É–≤–Ψ–Μ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Α–Φ–Η, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―è―²–Β–Μ―è–Φ–Η.
–Δ–Α–Κ ―É–Ε –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹―é–Ε–Β―²–Α, ―³–Α–Κ―²–Α, –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, 5-―²–Η βÄ™ 10-―²–Η –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Η―Ä–Α–Ε ―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―², ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―è –Κ―Ä―É–≥ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –î–Α, –Η –¥–Ψ―²–Ψ―à–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ―¹–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Β–¥―΄¬Μ –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Β―¹―²―¨, –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Η―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥―É―² –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –Δ–Α–Κ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –¥–Β–Μ–Α―è –≤―¹―²–Α–≤–Κ―É –Ψ–± –û–Μ–Β–≥–Β –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –‰–Φ–Β–Ϋ –Η –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι.
–ï―â–Β ―Ä–Α–Ζ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Η―²–Η―Ä―É―é ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄: ¬Ϊ...–Ω―Ä–Η ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –≤ –±–Α–Ζ–Β –Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ¬§–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –¥–Ϋ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–ΗβÄΠ¬Μ
–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 245 –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –•–Β–Ϋ―è –î―É–Κ, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Ϋ―É―Ä–Ψ –±―Ä–Β–¥―É―â–Η―Ö ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α ―É–Ε–Η–Ϋ (–Η ―²–Ψ, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Β): ¬Ϊ–ù―É, ―΅―²–Ψ –£―΄ –Η–¥–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―΄!¬Μ. –ê –Η–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ βÄ™ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –±―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄βÄΠ –ü–Ψ―Ä–Ψ―é, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Η –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²: ¬Ϊ–Λ–Η–Μ―¨–Φ―É –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ!¬Μ. –Ξ–Ψ―²―è, –≤ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Η ―³–Η–Μ―¨–Φ―É¬Μ, ―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –¥–≤–Α-―²―Ä–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Α–Μ–Η. –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ ―è –¥–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Α ―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Η –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α ¬Ϊ―¹–≤―è―²–Α―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö¬Μ βÄ™ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α. –ß―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –¥–Α –±―΄–Μ–Α –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Κ–Α βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² ¬Ϊ–≤―è–Μ–Ψ¬Μ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ. –ß―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤–Ψ―²―É–Φ–Β¬Μ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è (―²–Α–Κ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Β).
–‰ –Β―â–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Κ―É –Ψ–± –û–Μ–Β–≥–Β –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β.
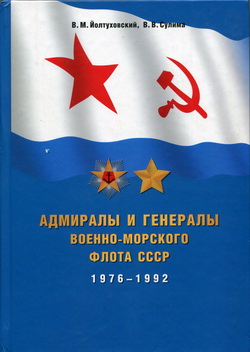 –Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –£.–€. –ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –£.–£. –Γ―É–Μ–Η–Φ–Α –Β―¹―²―¨ –Η –Ψ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ 1-―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-255¬Μ ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Γ–Λ. –½–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥. –û–Κ―²―è–±―Ä. –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η¬Μ.
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –£.–€. –ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –£.–£. –Γ―É–Μ–Η–Φ–Α –Β―¹―²―¨ –Η –Ψ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ 1-―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-255¬Μ ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Γ–Λ. –½–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥. –û–Κ―²―è–±―Ä. –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η¬Μ.
–ü–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Η ¬Ϊ–ü–Η―²–Ψ–Ϋ―΄¬Μ, –Γ–Μ–Α–≤–Α –½–Α–Φ–Ψ―Ä–Β–≤ –Η –Δ–Ψ–Μ―è –¦―É―Ü–Κ–Η–Ι, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ, ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ –Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―²–Η-–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η. –£–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ–Μ―¨–Β –Η–Φ(!!!) –Ω–Ψ
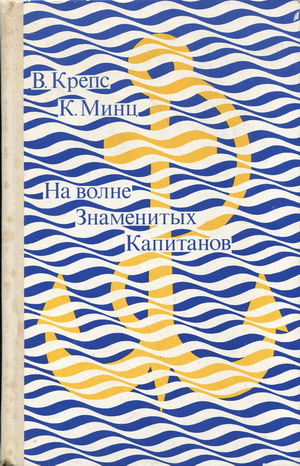 –ö―Ä–Β–Ω―¹―É –Η –€–Η–Ϋ―Ü―É –≤ –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ, –Ϋ–Β―¹―É―â–Η―Ö –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α –Η―Ö –Ϋ–Β―². –ê –Β―¹–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―É –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–ΑβÄΠ (―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Β –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄: ¬Ϊ–Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Η―à–Β–Φ –Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α―Ö, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è), ―²–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η–Φ–Β―é―² –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Η–Φ–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Μ–Α–Φ–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â.
–ö―Ä–Β–Ω―¹―É –Η –€–Η–Ϋ―Ü―É –≤ –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ, –Ϋ–Β―¹―É―â–Η―Ö –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α –Η―Ö –Ϋ–Β―². –ê –Β―¹–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―É –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–ΑβÄΠ (―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Β –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄: ¬Ϊ–Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Η―à–Β–Φ –Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α―Ö, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è), ―²–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η–Φ–Β―é―² –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Η–Φ–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Μ–Α–Φ–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â.
–ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-255¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 671 –†–Δ–€ 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é, –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥ –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―².
–ê –≤–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η:
¬Ϊ1981 –≥. ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨. –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-255¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 671 –†–Δ–€ 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –£–€–Λ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–Ε―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η (–Κ-―Ä –Κ–Α–Ω. 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤ –£.–£., ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É βÄ™ –¥–Ψ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –ö–î–Η –ü–¦ –Κ-–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –û.–ê., –¥–Α–Μ–Β–Β –ö–Λ–Μ –ü–¦ –≤-–Α –‰–Φ―è―Ä–Β–Κ) –Η–Ζ –±―É―Ö―²―΄ –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α (–≥. –£–Η–Μ―é―΅–Β–Ϋ―¹–Κ) –≤ –≥―É–±―É –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è –¦–Η―Ü–Α (–≥. –½–Α–Ψ–Ζ–Β―Ä―¹–Κ)¬Μ.
–‰―²–Α–Κ, –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-255¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 671 –†–Δ–€ 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é, –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥ –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―².
¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β, –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Κ–Η! –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, –Ϋ–Β–±–Ψ―¹–≤–Ψ–¥!
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄî –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≥―Ä–Ψ–Ζ–Α.
–ü–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α¬Μ.
–ù–Ψ, –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –°―Ä–Η–Β–Φ –£–Η–Ζ–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄: ¬Ϊ–ü–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –ü–†–‰–ù–·–Δ–§ –ù–ê –ë–û–†–Δ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –‰–Φ―è―Ä–Β–Κ ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ, –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ψ–Ι―²–Η¬Μ. –Δ―É―² –Ε–Β –≤―²–Ψ―Ä–Α―è, –≤–¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Κ―É: ¬Ϊ–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è¬Μ. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Κ–Α: ¬Ϊ–Κ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ who¬Μ (–Κ–Α–Κ, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Μ―é–±–Η–Μ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι ¬Ϊ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Ψ―Ä¬Μ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü –≤―¹–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤).
–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ –™.–ö. –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-255¬Μ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Δ–û–Λ. –Δ–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ε–Β –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –î–Α, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ―² ―à―²–Α–± –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―΅―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Α–Φ–Η: –±–Ψ―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η ―¹ –Η–Κ―Ä–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Η ―¹ ―²–Ψ―Ä―΅–Α―â–Η–Φ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η –Μ–Η―¹―¨–Η–Φ–Η ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η.
–Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –£–€–Λ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–Ε―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―². –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ/–ê–Φ―É―Ä–Β ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Η–Φ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ. –£ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –Β–Β –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β ―à―²–Α–±―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Β, –Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Β –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä―É―é―â–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Β―à–Α―é―â–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, ―²–Ψ ―³–Μ–Α–≥―¹–Ω–Β―Ü―΄ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Μ–Ψ―à–Α–¥–Κ–Η¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é―² –Ζ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β.
–û–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–Η–Ζ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―΄–Φ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ –¥–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α–Φ–Η 40-45 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –≥–¥–Β, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η―¹–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É –≥―Ä―É–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ.
–î―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β (–Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è–Φ–Η) –Ϋ–Α―É–Κ–Η βÄ™ –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Α –Η –Μ–Ψ–≥–Η―¹―²–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―Ö–Ψ―Ö–Ψ―΅―É―²―¹―è –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η: –¥–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄. –£–Β–Ϋ―Ü–Ψ–Φ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –û–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ―è―²–Ψ ―É 45 –î–Η–ü–¦. –î–Α, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ–Η–Ζ–Φ βÄ™ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η¬Μ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Α, –Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –®―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, ―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ. –û–Ϋ–Η, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –Φ–Ϋ–Ψ―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η. –Δ–Ψ―² –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―¹―²–Α–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ù–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α "–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄...", –Ψ–Ϋ–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é. –‰ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α βÄ™ –™–Β―Ä–Ψ―è –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –Η―Ö –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è.
–‰ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ–¥―΄―²–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Α –Δ–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ―² –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ê―³–Ψ–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅–Α:
¬Ϊ–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅!
–£ ―΅–Α―¹―΄ –Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –£―΄ ―¹–¥–Α–Β―²–Β –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –±―΄ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―¹–Β–±―è –Η –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Φ―É―é –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –£–Α―à –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥ –Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ –†–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –£–Α―à–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–Μ–Ψ ―¹ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –Γ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Η –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –£–Α–Φ ―Ä–Β―à–Α―²―¨, –Β―â–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Λ–Μ–Ψ―² –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹ ―¹–≤–Ψ–Β –Λ–Μ–Α–≥.
–£–Α―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥ –Κ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―΅–Β―Ä―² –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –£–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –£―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ï―â–Β ―Ä–Α–Ζ ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ω–Α–Φ―è―²―¨―é –Ψ –£–Α―¹ –Η –≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –£–Α―à–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –£–Α―à –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ.
–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –ü―Ä–Η–≤–Β―² –ù–Β–Μ–Μ–Η –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β¬Μ.
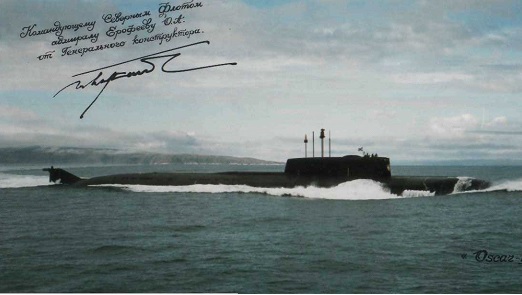
|
|
33. –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ
| |
–£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –û–¥–Β―¹―¹―΄, –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É ―¹ –Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Β―΅–Β―²―¨―é, –Β―¹―²―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―É―é―²–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –Β–≥–ΨβÄΠ–Ϋ–Β―² –Ϋ–Β –Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –ü―Ä–Β–¥–Κ–Η –Β–≥–Ψ βÄ™ –Ζ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Η βÄî –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ―΅–Α–Ι–Κ–Α―Ö¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à―É―² ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ XIX –≤–Β–Κ–Α –€–Ψ–Ϋ–Ε–Β―Ä–Η –Η –Ϋ–Α―à ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Β–Ϋ–Η―¹―² –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅, ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ –¥–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―è, –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α―è ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –≤ ―É–Ε–Α―¹ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤.
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ –Η –Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ βÄî –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ? –î–≤–Ψ―Ä–Η–Κ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ―ë–Φ βÄî –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α―²―É―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ―è–Β―²! –‰ –≤–Ψ–¥–Α –Ε―É―Ä―΅–Η―² –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ, –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α (―²–Ψ –Μ–Η –ê―³―Ä–Ψ–¥–Η―²–Α, ―²–Ψ –Μ–Η –ê―¹―¹–Ψ–Μ―¨) –≤ –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Ε–¥―É―â–Α―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –ê―Ä―²―É―Ä–Α –™―Ä–Β―è. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Α–Μ―΄―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤ βÄî –Μ–Β–≤―΄–Ι –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨.
–ê –Γ–Α―à–Α βÄî ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι. –ù–Α –≤―¹–Β―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Α –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Η –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ–Β. –ù–Β –≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ, –Κ―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ―É –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É β³• 1 –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Μ–Α–Ω―¹–Β―Ä–¥–Α–Κ–Β, –Κ–Μ–Ψ―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Β ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Κ–Μ–Β―²–Ψ―΅–Κ―É, –¥–Α –Β―â―ë ―É–Φ―É–¥―Ä―è―é―²―¹―è –Ψ–±–Μ–Α―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Α –≤―΄―Ä–Ψ―¹―² –Κ–Μ–Β―²―΅–Α―²–Ψ–Β –Ω–Α–Μ―¨―²–Ψ –Η –±―Ä―é–Κ–Η –≤ ¬Ϊ–≥–Α―Ä–Φ–Ψ―à–Κ―É¬Μ. –ë–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –±–Β–Ζ―΄–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄: ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Η–Μ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄, –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Μ–Κ–Β―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α ―è –Ω–Η―à―É ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η, ―Ä–Α―¹―¹–Β–Κ–Α–Β―² –≤–Ψ–¥―΄ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –‰ –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Β―â―ë, –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―² –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄, βÄî –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Ζ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α.
–· –Ω–Η―à―É –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Ω―Ä–Β–¥–¥–≤–Β―Ä–Η–Η –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –€–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β! –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ–Β, ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É―é―â–Β–Φ ―¹ –Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Β―΅–Β―²―¨―é. –£ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö ―É ―¹–Β–Φ―¨–Η –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –™–Α–Ι–Ϋ―É–Μ–Η–Ϋ. –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Β–Ψ–Ϋ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ―à–Κ―Ä―è–±–Α―²―¨¬Μ, ―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―²–Α―²–Α―Ä–Η–Ϋ. –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η ¬Ϊ―à–Κ―Ä―è–±–Α―²―¨¬Μ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ: –Η ―²–Α–Κ –≤―¹―ë ―è―¹–Ϋ–Ψ! –†–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ: –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ–Β –Φ–Α–Κ–Β―² –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Λ–Μ–Α–≥–Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –½–Ϋ–Α–Φ―è –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Ζ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Α –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨. –ê ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Φ―É―¹―É–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –€–Β―΅–Β―²―¨. –€―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è: –Ϋ–Α ―Ü–≤–Β―² –Κ–Ψ–Ε–Η, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ –≥–Μ–Α–Ζ, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ―É ―¹–Κ―É–Μ –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, –Κ―²–Ψ –Η –Κ–Α–Κ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² ¬Ϊ―ĬΜ. –î–Β–≤–Η–Ζ–Ψ–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –≤–Ζ―è―²–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –•–Α–Κ–Α –‰–≤–Α –ö―É―¹―²–Ψ: ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄¬Μ.
–ö–Α–Κ–Η–Φ–Η –±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è –Ω–Η―à―É, –Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―²–Η –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–≥–Μ–Α–¥–Η–Φ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.
–£–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –Γ―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –Η –Ψ–Ϋ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö –Φ–Η―Ä–Α: –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ψ―² ―²–Β―Ö ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―ç―²–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, ―è–≤–Μ―è―è―¹―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η―Ö –Η –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ–Α―Ä–Η―¹¬Μ –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Φ–Ψ–¥–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η βÄ™ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤. –ù–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–ΙβÄΠ, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë.–ê. –™–Α–Ι–Ϋ―É–Μ–Η–Ϋ βÄ™ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨βÄΠ―à–Η–Φ–Η (!) –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Η―è–Φ–Η –Ψ―² ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –ê ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ¬Μ, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―è―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ, –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–ê. –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –Δ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―è: –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –¥–≤–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω–Μ–Β―΅–Ψ–Φ –Κ –Ω–Μ–Β―΅―É, –Κ–Α–Κ –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –ß―É–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –¥―Ä―É–Ε–Η–Ϋ―΄ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Η.
–Δ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Φ, –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ζ–Α –Α―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –†―é–Κ―é, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –û–Κ–Η–Ϋ–Α–≤–Α, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –™―É–Α–Φ βÄ™ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α –£–€–Γ –Η –£–£–Γ –Γ–®–ê (–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄) –≤ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α βÄî –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –Α–≤–Α―Ä–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-122¬Μ.
–ü–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ–¥―Ä–Α―²–Η–Ι¬Μ: –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η–Β VII ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ: –Ψ―²―¹–Β–Κ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –†–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦, ―É–Φ–Β–Μ–Ψ–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-V –±–Ψ―Ä―¨–±–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―² –≥–Η–±–Β–Μ–Η. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –±―΄–Μ –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –®–Μ―΄–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Α―à –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Η –Ψ ―΅―ë–Φ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―à–Β―². –‰–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Α –≤―΄―à–Β–Μ ―Ä―è–¥ –Κ–Ϋ–Η–≥-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α.
–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë.–ê. –™–Α–Ι–Ϋ―É–Μ–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–Κ―²–Α―Ö –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η. 1944 –≥–Ψ–¥ –ë–Ψ―Ä―è βÄî ―é–Ϋ–≥–Α –î―É–Ϋ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –ù–Α –Β―ë –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―² –Ω–Ψ –î―É–Ϋ–Α―é –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–Κ―Ä―É–Η–Ζ¬Μ ―¹ –±–Ψ―è–Φ–Η –Ψ―² –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ–Α –¥–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α Passau. –ö―²–Ψ –±―΄ –Φ–Ψ–≥ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―à–Β―¹―²―¨ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Ι ―ç―²–Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι, 39 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β–≥–Ψ –€–Η―Ä–Α. –‰ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ, –±―É–¥–Β―² –≤ 2002 –≥–Ψ–¥―É –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
|
|
34. –ß―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨
| |
–ù–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ε–¥―΄ ―¹―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ξ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è (1918βÄ™1941 –≥–≥.)¬Μ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²–Ψ –‰–Φ―è –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–€-46¬Μ. –€–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–ΨβÄΠ –Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―É–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –ö–Ψ–≤–Α–Μ―ë–≤―É –≠―Ä–Η–Κ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É βÄî –Α–≤―²–Ψ―Ä―É –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―¹ –±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η–Φ, –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥―É―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―΅–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–Μ–Β―²–Ψ–≤¬Μ.
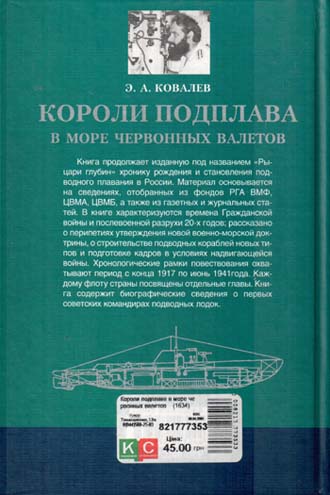 –ï–≥–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ϋ–Α–¥ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι –Ϋ–Α ―²―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η.
–ï–≥–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ϋ–Α–¥ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι –Ϋ–Α ―²―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η.
–£ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Γ–Α―à–Α –ü―Ä–Η–Ζ–≤–Α. –‰ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―ç―²―É ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ―É―é –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨. –ß―²–Ψ ―è –Η –¥–Β–Μ–Α―é.
–£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ü―Ä–Η–Ζ–≤–Α –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-207¬Μ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Β –≠―Ä–Η–Κ–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β.
–û –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Β –≠―Ä–Η–Κ–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β ―è ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1973 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –™–Α–¥–Ε–Η–Β–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤ –≠.–ê. –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ (–£–Γ–û–û–¦–ö) –£–€–Λ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―¹, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―΅–Β–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η, –Μ―É―΅―à–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ, –≥–¥–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –¥–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η, –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ–Κ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―à―²–Α–±–Α.
–û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω. 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤ –≠.–ê. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Μ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Α –≠.–ê. –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―²–Ψ-―²–Ψ. ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –£–Α―à―É ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é, –≤―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―¹―²–Α―²―¨¬Μ. –û―²–≤–Β―² –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Α –≠.–ê: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –¥–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Φ–Ψ―é ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é¬Μ. –Θ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ζ–Α–±–Η–Μ―¹―è –≤ –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Κ–Β. –≠―²–Ψ –≤―¹–Β –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι.
–Γ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤―΄–Φ –≠.–ê. ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅–Β–±―΄ –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –· –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1977 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Η –Γ–Γ–Γ–†. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –‰–Μ―¨–Η―΅ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ψ–±―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤ 2020 –≥–Ψ–¥―É –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ–Α –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―ç―²–Α –Ψ–±―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι. –£―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α. –•–Α–Μ―¨, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Α–Μ―¨. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤―¹–Β–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η.
–ù–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö ―è ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Β, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β β³• 202–ë, ―Ä–Α–Κ–Β―²―΅–Η–Κ–Η, –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η–Κ–Η. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ë–ß-2 –Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –†–û. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Η–Ζ 11 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Ψ–Φ, ―è –Η–Φ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―é –Ω―Ä–Η–≤–Β―² –Η –Ϋ–Α–Η–Μ―É―΅―à–Η–Β –ü–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ βÄ™ –ê–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η, –‰―²–Κ–Η–Ϋ―É –ë–Ψ―Ä–Η, –ë―É–±–Ϋ–Ψ–≤―É –‰–Μ―¨–Β, –ö―É–Ω―Ü–Ψ–≤―É –Γ–Μ–Α–≤–Β, –ö–Α―Ä–Β–Μ–Ψ–≤―É –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η, –£–Α―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅―É, –°–¥–Η–Ϋ―É –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―é –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅―É. –™–Α–Μ―¨–¥―΄–Κ―É –°―Ä–Η–Η―é –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É), –ü–Η–≤–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤―É –Δ–Ψ–Μ–Η, –ö–Α―Ä–Α–Φ―΄―à–Β–≤―É –Γ–Α―à–Β, –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Η –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è –Ζ–Α–±―΄–Μ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é.
–Θ―΅–Β–±–Α –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² ―É―΅–Β–±―΄ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Θ―΅–Β–±–Α –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –‰–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Φ―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β.
–ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –ù–Ψ –±―΄–Μ–Η –Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –Γ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Η –≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Α. –ë–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Η ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è ―²–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤ –≠―Ä–Η–Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è (–ë–ü–†–û). –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤ –≠.–ê. –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ. –ï–≥–Ψ –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄.
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≠.–ê. –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Α –Φ―΄ –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³, –≤ 24 –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –£–€–Λ. –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –£–£–€–Θ–†–≠ –Η–Φ. –ê.–Γ. –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α. –ö –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ―΄ –≤―¹–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β, ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Κ―É ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ βÄ™ –ö–Α–Μ–Η―â–Β¬Μ –Η –Β―Ö–Α–Μ–Η –¥–Ψ –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³–Α. –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –ö–Α–Μ–Η―â–Β –≤ ―΅–Β―Ä―²–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –ë–Ψ―Ä. –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤ –≠.–ê. ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α βÄ™ –ö–Α–Μ–Η―â–Β. –£―¹―ë –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―² –ü–Β―²―Ä–Α-I. –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –≤ ―²–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ü–Β―²―Ä-I ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η-―¹–Ψ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Η―â―É. –ù―É –Α –Ω–Η―â―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É: ¬Ϊ–Κ–Α–Μ–Η ―â–Η¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨, –≥―Ä–Β―²―¨ –±–Ψ―Ä―â –Ω–Ψ, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –û―²―²―É–¥–Α –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α. –≠―²–Ψ ―²–Α–Κ–Α―è –≤–Β―Ä―¹–Η―è, –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α.
–Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰―²–Κ–Η–Ϋ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –†–ü–ö ¬Ϊ–ö-207¬Μ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Μ –±―΄–Μ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤ –≠.–ê. –‰–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β ―É –≠―Ä–Η–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Η―â–Β ¬Ϊ–≤–Ψ–Μ–Κ–Ψ–¥–Α–≤¬Μ. –î–Α –Η –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β ―³–Η–≥―É―Ä–Α ―É –≠―Ä–Η–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Μ ¬Ϊ–ö-207¬Μ –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –±―É–¥–Β―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É―΅–Β–±–Α. –ù–Ψ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―΄–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–‰ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤ –≠.–ê. –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Β–Ι. –ü–Ψ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―²–Β–Μ–Β–Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Α–≤–Α–Μ –Β–Φ―É –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄.
–ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –≤–Ψ―² –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―è –Φ–Ψ–≥―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Β –≠.–ê.
9 –Φ–Α―è ―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ ―¹ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ―΄–Φ –‰–≥–Ψ―Ä–Β–Φ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β. –ü–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Β–Φ―É –£–Α―à –Ω―Ä–Η–≤–Β―² –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É –¥–Α―²―¨ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Α –≠.–ê. –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –‰.–ö. –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ –Κ–Μ―É–± –Ω–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―², ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―è –Η –Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―¹ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―². –Δ–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Α –≠.–ê. ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Β. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―¹ –Ϋ–Α 5-–Ι –¦–Η–Ϋ–Η–Η –£–û, –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―² –Φ–Ϋ–Β ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤–Α –≠.–ê. –Α ―è ―¹–Ψ–Ψ–±―â―É –Β–≥–Ψ –£–Α–Φ.
–Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –ê.–€. –ü―Ä–Η–Ζ–≤–Α.
14 –Φ–Α―è 2020 –≥–Ψ–¥–Α βÄî–î–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è II –Η –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è (–Ω–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ―É ―¹―²–Η–Μ―é).
–‰ –Β―â―ë –Ψ―² –Γ–Α―à–Η –ü―Ä–Η–Ζ–≤–Α
–≠.–ê.–ö–Ψ–≤–Α–Μ―ë–≤ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―à–Β―¹―²–Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –†–ü–ö–Γ–ù –Η ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤. –û―¹–≤–Ψ–Η–Μ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η.
–£ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1969 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –†–ü–ö–Γ–ù –ö-207 –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Λ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 400 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤.
–£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≠.–ê. –ö–Ψ–≤–Α–Μ―ë–≤ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ―¹―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Β–≥–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β 25 –Μ–Β―² –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö:
βÄ™ ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –≤ ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Β ―¹ –ê.–ê. –Γ–Α–Κ―¹–Β–Β–≤―΄–Φ (–Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α ―²―Ä–Η –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β βÄ™ –≤ 2002 –≥–Ψ–¥―É).
βÄ™ ¬Ϊ–†―΄―Ü–Α―Ä–Η –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ¬Μ (―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–Α―Ä–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α), –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –≤ 2004 –≥–Ψ–¥―É.
βÄ™ ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―΅–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–Μ–Β―²–Ψ–≤¬Μ (―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α), –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –≤ 2006 –≥–Ψ–¥―É.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Α―²―¨–Η –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö: ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ, ¬Ϊ–™–Α–Ϋ–≥―É―²¬Μ, ¬Ϊ–Δ–Α–Ι―³―É–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ¬Μ, ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―²¬Μ, ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Η ―ç―²–Η–Κ–Β―²¬Μ.
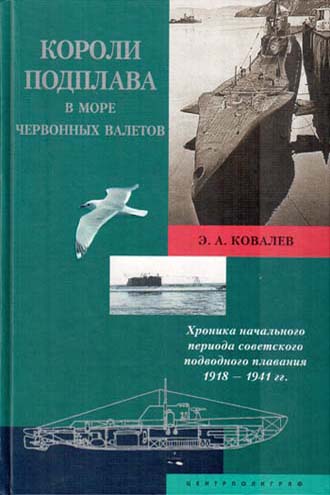 –î–Α–Μ–Β–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É―é―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≠.–ê. –ö–Ψ–≤–Α–Μ―ë–≤–Α –Ψ–± –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –†–ü–ö –Γ–ù –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 667–ê –ö-207 –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è 400 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤.
–î–Α–Μ–Β–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É―é―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≠.–ê. –ö–Ψ–≤–Α–Μ―ë–≤–Α –Ψ–± –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –†–ü–ö –Γ–ù –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 667–ê –ö-207 –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è 400 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤.
|
|
35. –‰ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Α―¹, –Ϋ–Β–≥―Ä–Ψ–≤, –≤ –Ϋ–Β–≥―Ä–Η―²―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ε–Α–Ζ–Β?
| |
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-335 613-–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η, –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ ―É–Φ–Α ―É–Ε–Β –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Α–Κ―²–Α –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –£–€–Λ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β –≤ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –†–Ψ–≥¬Μ, –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α –±―É―Ö―²–Α –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, ―²–Α–Κ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, ―¹―΅–Η―²–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η βÄ™ –Ζ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α―²–Α–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è.
–€―΄ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –Α–Ϋ―²―Ä–Β―¹–Ψ–Μ―è―Ö, –Ϋ–Α–≤–Η―¹―à–Η―Ö –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β―²―Ä―É –Ϋ–Α–¥ –Ψ–±―â–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α. –ß–Α―¹―²―¨ –Η―Ö –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Κ–Η. –‰–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Κ–Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―è―Ä–Κ–Α―è –¥–Α–Φ–Α, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Κ–Ψ–Μ―¨―²–Β. –£―΄–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Α –Η –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Α –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –≤ –Ϋ–Α―à―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –‰, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η: –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, ―¹–Ω–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η―Ö –±–Μ―é–¥ –Ϋ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ. –û―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α―Ö ¬Ϊ–Μ―é–Μ―è–Κ–Η-–±–Α–±¬Μ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η.
–‰ –≤–Ψ―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Φ–Β―¹―²―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –®―²–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Ψ ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―², –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Α–Κ–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―É–±–Κ–Η, –Α –≤ –Μ―é–Κ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ –≤–Ψ–¥―΄. –£–Ϋ–Η–Ζ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ–Η ―É–±–Η―Ä–Α―²―¨. –½–Η–Φ–Α –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ–Η, –Μ–Β–¥―è–Ϋ―è―â–Β–Φ–Η –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Η ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α –Ω―Ä–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ–Φ –Η –±–Β–Ζ–Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ–Φ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Β.
–ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥,–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –ê–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –≤–Ζ―è―²―΄ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ―¹¬Μ, –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Κ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β-―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨, –≤―΄–±–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –ü–Β―Ä–Β–Ω–Α–¥―΄ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –±―¨―é―² –Ω–Ψ ―É―à–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Μ―é–Κ–Β –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Ι. –½–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ζ–Η–Φ–Α. –£ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹―΄―Ä–Ψ, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β V, –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Κ―É–¥–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –≤–Α―Ö―²–Α ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨―¹―è.
–ï–¥–Α –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Φ–Η–Ϋ―É―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ―è–Κ–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –‰ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Β―É―é―²–Β¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ζ–Α –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Α―à–Β ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β –Η ―¹ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―²: βÄ€–· ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ ―²―É –Μ―é–Μ―è-–Κ–Β–±–Α–±―ÉβÄù. –ù–Α ―΅―²–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―ë–Ϋ–Ψ–Κ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄) –≠–¥–Η–Κ –¦–Β–≤–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ ―¹ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―â–Η–Ι ―¹–Φ–Β―Ö –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η: βÄ€–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Α ―è –Ζ–Ϋ–Α―é –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Η–≤―ë―²βÄù.
–≠–¥–Η–Κ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è –Β―â―ë ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β ―¹ –î–Ε–Η–Φ–Ψ–Φ –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ, ―É–Ε–Β –≤―΄―Ä–Ψ―¹―à–Η–Φ –Ϋ–Β–≥―Ä–Η―²―ë–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ¬Ϊ–Π–Η―Ä–Κ¬Μ. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨―è–Φ –Η –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –û―Ä–Μ–Ψ–≤–Α –Η ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ–Α –≤–Β―¹―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é¬Μ –Η –Β―â―ë ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―É―²–Α–Μ–Η ―¹ –î–Ε–Η–Φ–Ψ–Φ. –ù–Α ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –£–Α―¹―è –û–Μ–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –ë–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, 2 (–î–Ψ–Φ–Α ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è–Φ–Η), –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è–Ζ–≤–Η–Μ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―² –Ψ –Ϋ–Β–≥―Ä–Η―²―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ε–Α–Ζ–Β: βÄ€–‰ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Α―¹ –Ϋ–Β–≥―Ä–Ψ–≤, –≤ –Ϋ–Β–≥―Ä–Η―²―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ε–Α–Ζ–Β?!βÄù
|
|
36. –Γ–Ψ―É―²―è―²–Α
| |
–ö–Α–Κ–Η–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²―΄ –Η –Ω–Η―Ä―É―ç―²―΄ –Ϋ–Η –±―΄–≤–Α―é―² –≤ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Β. –ê ―è ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ―è―é ―¹–Β–±―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É. –ß―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –£–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ.

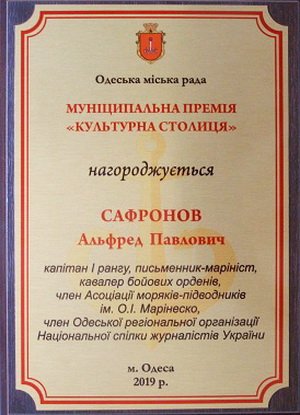
–ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―è –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―¹―¨ –Ψ―² ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –£–Η―²–Α–Μ–Η―è –Γ–Α―É―²―ë–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α. –ï–≥–Ψ –Η–Φ―è –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―Ö―É –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –û–±–Μ―¹–Ψ–≤–Β―²–Β. –†–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Ψ―²―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―¹―¨¬Μ ―è, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―é –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ¬Ϊ–Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è¬Μ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –≤–Ψ―² –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –ê –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –±―É–Κ–≤―É ¬Ϊ–Α¬Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–≥–Β ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ¬Μ. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥ –¥–Μ―è –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Ψ―é –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Κ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι (–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α) –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β "–€–Η–¥―É―ç–Ι".
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ ―è –¥–Ψ―à―ë–Μ –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄ™ –Φ–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β―Ö –Γ―²―Ä–Α–Ϋ –Η –ö–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄–≤–Α―²―¨ –Η ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨¬Μ ?!
–ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―΄―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η
–ë―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ–Η. –ü―ë―²―Ä –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι: ¬Ϊ–Θ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –¥–≤–Α –¥―Ä―É–≥–Α βÄ™ –ê―Ä–Φ–Η―è –Η –Λ–Μ–Ψ―²¬Μ –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –£.–€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É: βÄ€–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥―é–Ε–Η–Ι ―²–Β–±–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Μ–Α–±―΄–Β, –Β―¹–Μ–Η –¥–≤–Ψ–ΒβÄù, ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Μ–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–ΨβÄ™–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―², ―Ä–Α―¹―²–Η–Μ–Η –Κ–Α–¥―Ä―΄. –ü–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ω―΄―²―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β 1 –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―², –¥–Μ―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –£–€–Λ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É–¥–Α. –ê ―É –Ϋ–Α―¹: –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É–¥–Α –¥–Μ―è –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –±–Α–Ζ–Α–Φ, –Ϋ–Ψ –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Ψ–Ι, ¬Ϊ–≤―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ―΅–Κ―É¬Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―à–Α–≥–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Η―Ö–Ϋ–Β–Ι ―²–≤–Β―Ä–¥–Η.
–½–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É –Ϋ–Β –±–Β–Ζ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α –Ψ―² 4 ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, –Φ–Η–Ϋ―É―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, (―Ä–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α), –≥–¥–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α. –‰ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –ï―¹–Μ–Η –Η–Ζ –Γ–Η–Ϋ–≥–Α–Ω―É―Ä–Α, –™–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ϋ–≥–Α, –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η, –ö–Α–Ϋ–Α–¥―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä―¨―è ―è –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –¥–Η–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Β –±–Α―Ä–Α―Ö–Μ–Ψ, ―²–Ψ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Ε–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–Μ―¨―è. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Μ–Β―² –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―謧, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―è –Η –Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–½–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α―Ö¬Μ:
–€–Ψ–Η –≤–Ψ―è–Ε–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α ―Ö―Ä―É―â–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ–Η―è¬Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Α –Η–Ζ –ö–Α–Ϋ–Α–¥―΄. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –±–Α―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Κ–Β―Ä―΄ –Η –Ϋ–Β –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―É –Ϋ–Α –≤―΄–≤–Ψ–Ζ. –≠―²–Ψ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ―²–Β–Ω–Μ–Η¬Μ ―¹ –Β―ë –ù–Ψ–≤–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹–Κ–Η–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Α ―²–Β–Φ–Α –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄.
–ü–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―è –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –≤ –ö–Α–Ϋ–Α–¥―É ―²―É–¥–Α –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ, ―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ ―²–Α–Κ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É: –ê–Μ―¨–±–Α―²―Ä–Ψ―¹, –Α ―²–Ψ –Η―Ö –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –ê–Μ―¨–±–Α―²―Ä–Ψ―¹ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α–Ι–Κ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Α―Ä–Η―²―¨ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Η–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é 15 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ (―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 30 –Κ–Φ/―΅–Α―¹) –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –≤–Ζ–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–≤ –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ–Φ. –≠―²–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω―΄ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―É―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²―è―Ö –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Η–Φ–Β―é―² ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Β–Φ―É―é –Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Κ―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ–Α―è¬Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤ –≥–Ψ―Ä―΄ ¬Ϊ–Λ―É–¥–Ζ–Η―è–Φ–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―è –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α (–Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –≤ –ö–Α–Ϋ–Α–¥―É), –Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―²–Ψ–Ε–Β.
–£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤–Α―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–¹–Ε–Η–ΚβÄΠ 2¬Μ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄, –Κ–Α–Κ –≤ ―¹―é–Ε–Β―²–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö ―à―²―Ä–Η―Ö–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α―Ö. –û–Ϋ–Η, ―ç―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄, ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –±―΄, ―¹–≤―è–Ζ―É―é―â–Η–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ―¨―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –‰–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η, –¥–Α –Η –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α―é―² –Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –£ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –£―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ―É ―è ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ―è―é.
–ü―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –≤ –ö–Α–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –£–Α–Ϋ–Κ―É–≤–Β―Ä –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥ ―É ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≤ –Η―Ö –Μ–Η–¥–Β―Ä–Α –£–Β―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ―É–Μ―¨―²–Η–≤–Η―Ä―É―é―² –Η –≤―΄―Ä–Α―â–Η–≤–Α―é―² –≤ –ö–Α–Ϋ–Α–¥–Β –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―É. –ë―΄–≤–Α―è ―É –Ϋ–Η―Ö –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö –Η –Ψ―²–Κ―É―à–Α–≤ –Η―Ö–Ϋ–Η―é ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―΅–Β―¹–Κ―É―é –Β–¥―É, ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Η ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι –±–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Μ–Η–±–Ψ –¥–Η―¹–Κ―Ä–Η–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –≤–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Α–Μ–Η–Μ –Ϋ–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥. –î–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü ―É–Ε–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β: ¬Ϊ–€–Ϋ–Β –¥–Μ―è –†–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Β–Η –Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ!¬Μ. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –±―΄–Μ –≤ –£–Α–Ϋ–Κ―É–≤–Β―Ä–Β, ―²–Ψ –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α, –Η –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.
–ù–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Η –Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥―É–Φ–Κ–Η –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è.
–ù–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–Η–Ζ–Β ―²/―Ö ¬Ϊ–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –†–Α–Ζ–Η–Ϋ¬Μ ―¹ –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Η–Ζ –ö–Α–Ϋ–Α–¥―΄
–Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ ¬Ϊ–Φ–Η–¥–Β–Μ―é¬Μ (–Ω–Ψ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β). –ü–Α–Μ―É–±–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Ω―è―²–Η ―¹–Α–Ϋ―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ψ―² ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α –Η ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –ü–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –€–Η–¥―É―ç–Ι. –ù–Ψ ―²–Α–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –Γ–®–ê, –Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –‰ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à―ë–Ϋ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ ―²–Α–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η: –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–Μ–Η ¬Ϊ–±―Ä–Ψ–Ϋ―è–Ε–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ ―è βÄ™―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ.
–ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –î–Μ―è –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ¬Ϊ–Ζ–Α―Ö–Μ–Α–Φ–Μ―è―²―¨¬Μ –Ω―Ä–Η―à–Μ―΄–Φ–Η ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Α–Κ, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Β―â―ë –Η ¬Ϊ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ¬Μ.
–ö–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –€–Η–¥―É―ç–Ι –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Η –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ¬Ϊ–≥―É―¹―¨¬Μ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ βÄ™ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―² –¥―Ä―É–≥ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Β.
–‰ –≤–Ψ―² –Φ―΄ ―¹ ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –≤ ¬Ϊ–≤–Η–Μ–Μ–Η―¹–Β¬Μ, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Β–¥–Β–Φ –Ω–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β. –‰ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β!!! –£–Ψ―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Κ ―΅–Β–Φ―É –≤–Β–Μ–Η –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –î–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Β―² –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ –Α–Μ―¨–±–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –€–Α–Φ–Ψ–Ι βÄ™ –ê–Μ―¨–±–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η―Ö–Ψ–Ι. ¬Ϊ–£–Η–Μ–Μ–Η―¹¬Μ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η―², –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―à–Β―¹―²–≤–Η–Β. –ê–Μ―¨–±–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η―Ö–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ: ¬Ϊ–ö―Ä―è! –ö―Ä―è!¬Μ βÄ™ –Ψ―²–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –Ζ–Α –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ê –Φ―΄ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―¹ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.
–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Μ–Α–≤―΄ –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ–Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ¬Μ. –£–Β–¥―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅–Α―¹―²–Η―Ü–Α ¬Ϊ―¹–ΨβÄΠ¬Μ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―â–Β–Β ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –≤–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ. –ê ―É―²―è―²–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è ―É―²―è―²–Α–Φ–Η, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Η –Α–Μ―¨–±–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄.
–Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –£–Η―²–Α–Μ–Η―é –Γ–Α―É―²―ë–Ϋ–Κ–Ψ–≤―É –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―â―É―é –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η―é βÄ™ –½–Α –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –î―Ä―É–Ε–±―É –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –ü―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β. –ê –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β―¹―²―¨βÄΠ –Λ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –™―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι 2021–≥–Ψ–¥–Α –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –Γ–Α―É―²―ë–Ϋ–Κ–Ψ–≤.
46-–Ι –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β –€–Η–¥―É―ç–Ι.


|
|
37. –™―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Κ–Β
| |
–½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Ι –ù–Α―à–Β–Ι –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Η –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –‰–¥–Β–Ι. –û―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η―è –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η ―¹ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –¥–ΨβÄΠ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Μ―é–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β―²–Β–≤―à–Β–Ι ―¹ ―É―¹―² –™–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Α –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η βÄ™ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è ―²―É―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α. –‰ –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β.
–î–Α, ―è ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –≤ ―²–Ψ–Ι –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β ―²―É―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―Ö–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Β–Ε–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ζ–Ϋ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι (–Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Α–Φ!!!) –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –û–¥–Β―¹―¹–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –‰–Φ―è –û–¥–Β―¹―¹–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―É―é –±―É–Κ–≤―É, –Κ –±–Ψ–Μ―¨―à―ë–Φ―É –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―é –¥–Μ―è –™―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Β―Ä–Ψ―è –û–¥–Β―¹―¹–Β―è. –ß–Β–Φ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –‰–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è ―É–±―Ä–Α―²―¨ –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Ψ (–≤ –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―² βÄ™ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ!!!). –‰ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è―Ö –±―É–¥―É―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ–Μ.
–î–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ βÄ™ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ ―²―É―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―Ö–Α–Ϋ–Η–Β, –Α ―¹–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –¹–Ε–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―ç–Ω–Η–≥―Ä–Α―³ ¬ΪβÄΠ–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-―ë–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è¬Μ.
–‰―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―¹―¨. –‰―²–Α–Κ, ―è –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –ë–Μ–Η–Ζ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨. –· –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–™–Μ―ç―΅–Η–Κ¬Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω―è―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α―Ö ―Ö–Ψ–¥―¨–±―΄ –¥–Ψ ―É―Ä–Β–Ζ–Α –Γ–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Η–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –€–Η―Ä–Β, –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Η―²―É–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤. (–£ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ζ–Α―É–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ ―²―É–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Α―Ä–Α―Ö).
–ü―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹–Ω―É―¹–Κ –Ψ―² ¬Ϊ–™–Μ―ç―΅–Η–Κ–Α¬Μ, –≤ ―¹–Ω–Β―à–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤―à–Η―¹―¨, –Φ―΄ ―É–Ε–Β –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É–Ω–Β–Μ–Η. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–Β –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É βÄ™ –Ω–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―à–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―Ä―è–¥. –ü–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―è –Κ ―²–Ψ–Ω―΅–Α–Ϋ―É, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α, –Ψ―¹–≤–Β―²–Η–≤ –Φ–Ψ―é ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―É―é ―Ä―É–±–Α―à–Κ―É ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―É–±–Β–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Κ–Β, –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨―à–ΒβÄΠ
|
|
38. –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–Λ–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä¬Μ –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ü. –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Β
| |
–ß―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–Λ–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä¬Μ
(–≤―΄–±–Ψ―Ä–Κ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α)
–ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 29 –Φ–Α―è 1930 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –î–Ψ–Ϋ―É –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è, –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Α, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α, ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è ¬Ϊ–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι¬Μ.
–ê ―¹–Α–Φ, –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –ê–Μ–Η–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥―É, –≥―É–Μ―è―è –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―é ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι –î–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥―è –Μ―É–Ε―É, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë ―Ä―É―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄ€–€–Ψ―Ä–Β!βÄù. –‰―²–Α–Κ, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η: –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―², –Ζ–Α―²–Β–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤–Α, –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²: –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ (–€–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤―¹–Κ–Α―è), –Θ–Μ–Η―¹―¹, –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Α, –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –™–Α–≤–Α–Ϋ―¨. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Η –Ω―Ä–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Η –ê―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―â–Η―²–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α―è ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä–Β―²―¨―¹―è –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―΅–Α–≥–Α–Φ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι: ―²–Β –Ε–Β –±―É―Ö―²―΄ –Ω–Μ―é―¹ –±–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α–±―΄―²–Α―è –†–Α–Κ―É―à–Κ–Α –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –ß–Α–Ε–Φ–Α βÄ™ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è, –Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β. –®―ë–Μ –≤―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―¹ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ βÄ™ –Λ–Μ–Ψ―² –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹–Α–Φ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è.
–Θ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É –≤ 51 –≥–Ψ–¥ ―¹ –≤―΄―¹–Μ―É–≥–Ψ–Ι 50 –Μ–Β―². –£―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ω–Μ–Α–≤―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –≥–Ψ–¥―΄ ―É―΅―ë–±―΄: –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ.
–ê –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ βÄ™ 1942 –≥–Ψ–¥. –°–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α –Γ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ, ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ 90-–Ψ–Ι –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –±―É―Ö―²–Α –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α―è. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –®–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 4 ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Α –Η–Φ. ¬Ϊ–½–Α–≤–Β―²―΄ –‰–Μ―¨–Η―΅–Α¬Μ. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Γ–ö–†`–Α –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β (―ç―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ) –≤ ¬Ϊ–€–Β―Ö. –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–±–Β–≥―É―à–Κ–Α―Ö¬Μ ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤-―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö: ―É–±–Η―Ä–Α–Μ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―¹―²―Ä―É–Ε–Κ―É, –Ζ–Α―²–Α―΅–Η–≤–Α–Μ ―Ä–Β–Ζ―Ü―΄, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α –≤ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β ¬Ϊ–Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Α¬Μ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Α. –ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è –¥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ―è―²–Ψ–Κ –Φ–Α―Ö–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Ζ―Ü–Α –Ω–Ψ ―¹―É–Ω–Ω–Ψ―Ä―²―É, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι ―è―â–Η–Κ. –†–Α–±–Ψ―²–Α―è –Ε–Β –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Φ–Β–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨, ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Ω―΅–Α–Ϋ–Β, –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―è –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ –Η ―É–Κ―Ä―΄–≤–Α―è –Ζ–Α―¹–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Ι–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ–Φ. –ù–Η –Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Α–Φ ¬Ϊ–¥–Β–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Β¬Μ, –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, ¬Ϊ–≥–Ψ–¥–Η–Ζ–Φ–Β¬Μ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –½–Α–Ω–Α―Ö ―Ü–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, ―ç―²–Ψ―² ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–≤–Β–≤–Α–Β―² ―²–Β –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β―²―¹―²–≤–Α.
–Γ–Α–Φ–Α –Ε–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Β―ë –±–Ψ–Β–≤―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –≠―²–Ψ –Η ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η ¬Ϊ–î–Η–ü-200¬Μ, ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―¨–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι, ―³―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ―² –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. ¬Ϊ–€–Η–Ϋ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥¬Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Κ―É―â–Η–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―é. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―² ¬Ϊ–ü–ü–®` –Α¬Μ ―¹ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Φ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Η―¹–Κ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―à―²―É―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ¬Ϊ―²―Ä–Β―Ö –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Κ–Η¬Μ –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Ψ―²―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –· –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―ç―²–Ψ―² –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―². –ë―΄–≤–Α―è –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–©-14¬Μ –≤ ―²–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–ü–ü–®¬Μ.
 –ê –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ –Μ–Α―²―É–Ϋ–Η, ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α–Φ―΄ –î–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄, ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η.
–ê –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ –Μ–Α―²―É–Ϋ–Η, ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α–Φ―΄ –î–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄, ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η.
–‰ –Β―â―ë –Η–Ζ ―²–Β―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –ü–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Κ–Μ―É–±–ΒβÄΠ –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–≤―΄ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Ψ―²–Η–Ϋ–Ψ–Κ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α III ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ö.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Κ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â―É –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É. –ê –≤ 1962 –≥–Ψ–¥―É ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β ―²―Ä―ë―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ―΄–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–‰ –Β―â―ë –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Α―¹–Ω–Β–Κ―², –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Β–Η–Ζ–≥–Μ–Α–¥–Η–Φ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Α –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Η–Ι ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Β–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –≤―΄–±–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–ΗβÄΠ –Η ―¹―É–¥―¨–±―΄. –€–Β―Ö–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –±―΄–Μ–Α ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–Ζ–Α –≤–Ψ–¥―΄ –±―É―Ö―²―΄, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ω–Η―Ä―¹, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ –Γ–ö–† ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ. –ù–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Β―ë –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³―Ä–Α–≥–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Μ–Α–¥―΄¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―è –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Ι –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ι –Η―Ö –¥–Μ―è –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―é. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –±―΄–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤, ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―².
–™―Ä―è–Ϋ―É–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α 1854 –≥–Ψ–¥–Α. –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –¥–≤―É―Ö ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ–Μ―è―²―΄―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι¬Μ, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –≤–Ψ–Β–≤–Α–≤―à–Η–Β –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Β–Κ–Α, ¬Ϊ–≤–¥―Ä―É–≥¬Μ –Ϋ–Α–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è (–Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤–¥―Ä―É–≥¬Μ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Η―à–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö-–≠―¹―¹–Β) –Ψ―² –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –¥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è –Η –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Μ–Α–¥―΄¬Μ, –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤ –≤ –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Ι, –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤―Ä–Α–≥―É. –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―ç―²–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α.
–£–Ψ―² –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β 7-–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β (–≥.–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ), –Ζ–Α―²–Β–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β βÄ™ ―É―΅―ë–±–Α –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –£―΄―¹―à–Β–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –‰ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö―è―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Ι–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –‰ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ:
–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²
1954 –≥–Ψ–¥
–ü–¦ ¬Ϊ–¦-19¬Μ, ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄–Ω―΄ –ë–ß-I, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². –ü–¦ ¬Ϊ–©-131¬Μ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-I. –£ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α (―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ). –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–¦ ¬Ϊ–€-46¬Μ.
1955–≥–Ψ–¥
–ü–¦ ¬Ϊ–¦-14¬Μ, –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-335¬Μ, 613 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-I, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―².
1956 –≥–Ψ–¥
–ü–¦ ¬Ϊ–Γ-335- –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―².
–ù–Ψ―è–±―Ä―¨ 1957 –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―² 1959 –≥–Ψ–¥
–£ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Γ–Η–Μ–Α–Φ–Η –Δ–û–Λ
1959 –≥–Ψ–¥
–ü–¦ ¬Ϊ–Γ-286¬Μ - –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α
1961 –≥–Ψ–¥
–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –Θ―΅―ë–±–Α –Ϋ–Α –£–û–¦–Γ–û–ö`–Β (–£―΄―¹―à–Η–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –ö–Μ–Α―¹―¹―΄). –Θ―΅–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―²–Β –Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―³–Β–Η ¬Ϊ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¦–Ψ–Ϋ―Ü–Η―Ö –Η –î–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –ö –Φ–Β―¹―²―É –±―É–¥–Β―² –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α –¦–Ψ–Ϋ―Ü―΄―Ö–Α –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Μ―è ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Η―â―É―â–Η―Ö –Ϋ–Α―²―É―Ä: ¬Ϊ–Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Η –Ϋ–Β―². –û–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥―ë―², –Β―¹–Μ–Η –Β―ë –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨¬Μ.
1962 –≥–Ψ–¥
–û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ. –û―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η.
–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²
1963 –≥–Ψ–¥
–ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-66¬Μ, 659 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α βÄ™ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.
1966 –≥–Ψ–¥
–½–Α –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ ―¹–Ϋ―è―² –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ. –‰ ―²―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 15 –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Α–Κ–Α–Ϋ―²–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
1967 –≥–Ψ–¥
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α―Ö –≥–Η–±–Β–Μ–Η –≤ –ë–Η―¹–Κ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-8¬Μ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-66¬Μ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄, –ê.–ü. –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –½–Α–Φ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–ë–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ―Ä―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α.
1968 –≥–Ψ–¥
–ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, 627 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.
1973 –≥–Ψ–¥
–½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η–Φ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –‰ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ - –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Β–±–Β–Ζ―΄–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β ¬Ϊ–ß–Α–Ε–Φ–Α¬Μ. –½–Α―²–Β–Φ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β ―¹ –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
.
–Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Γ–Ψ―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Κ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è, –±―΄–Μ–Ψ βÄ™ –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ: –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –ê –≤–Β–¥―¨ –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Η ―²–Α–Κ. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ¬Ϊ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η–Μ―¹―è¬Μ –≤ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Β –Ϋ–Α ―É―΅―ë–±―É. –ü–Β―Ä–≤–Β–Ι―à–Η–Ι ―à–Α–≥ –≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―É―΅―ë–±–Α. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ¬Ϊ–Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö /!!!/: ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι: –Β―â―ë ―É―¹–Ω–Β–Β―²―¹―è, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ βÄ™ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι. –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –ï–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –®–Α–Μ―΄–≥–Η–Ϋ, –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –¦―É―Ü–Κ–Η–Ι, –ê–Μ―ë―à–Α –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤, –£–Α―¹―è –™–Ψ―Ä–±–Α―Ä–Β―Ü βÄ™ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≥―Ä―É–¥―¨―é¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Φ –±―΄–Μ ―¹–Ϋ―è―² ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-66¬Μ. –ù–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è –Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –ö–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²―É ―¹ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Β –û.–ê. –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β –Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄¬Μ, –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Μ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–ê –Ψ–Ϋ, –£–Α–Φ, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ?¬Μ. –ù–Α ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–¥―²–Η –£–Α–Φ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É¬Μ (–Κ–Α–Κ –≤ –≤–Ψ–¥―É –≥–Μ―è–¥–Β–Μ!). –‰ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ. –Θ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö: –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Λ¬Μ, ―΅―²–Ψ –±―΄―²–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―²; –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–Δ–Λ¬Μ - ―²–Ψ–Ε–Β ―³–Μ–Ψ―²; –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–ë–Λ¬Μ - –±―΄–≤―à–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²; –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–ß–Λ¬Μ - ―΅–Η ―³–Μ–Ψ―²? ―΅–Η ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è? –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ ―Ä–Β–Ι―²–Η–Ϋ–≥ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. –‰ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ –û–Μ–Β–≥ βÄ™ 7 –Μ–Β―² –Ω–Μ―é―¹ 2 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ß–Β–Φ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è. –î–Μ―è ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η―Ö.
–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β―Ä―² –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –ê.–ü. –‰–Ζ –≤―¹–Β―Ö, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Α―è ―¹–≤―è–Ζ–Κ–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –û―² ―²–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Η―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é. –£–Ψ―² ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Κ–Α –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η: ¬Ϊ–£ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ¬Μ.
–Γ–Κ―Ä–Ψ–Φ–Β–Ϋ –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –≤ –±―É―Ö―²–Β –ß–Α–Ε–Φ–Α βÄ™ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―¹–Α–Φ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² ―¹―²–Α―²―É―¹ ¬Ϊ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―Ü–Α¬Μ. –ö–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ (–≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β –Η–Φ–Β–Ϋ―É–Β–Φ―΄–Φ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ βÄ™ –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι¬Μ.
–Δ―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α. –£ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹―΄, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α―Ö –≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β –±–Α–Μ–Μ–Ψ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Α―¹–Μ―΄―à–Κ–Β, βÄΠ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α. –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ε–Β –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ 20-25 –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü, –¥–Α –Η –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –£–€–Λ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η –≤ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ, ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 40 ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄ™ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Κ―Ä―É–≥. –ê ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―à–Β–Μ―¨–Κ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –≤–Μ–Η―è–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Η―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ω―É―²–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Ϋ–¥–Α―²–Α, –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥―É –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β. –ö–Α–Κ –Η –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Β―¹―²―¨ –Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―é, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–≤–Ψ―²―É–Φ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β¬Μ. –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―². –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤―¹–Β–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ ―¹―²―Ä–Ψ―é: βÄ€–½–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η!βÄù –ê ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²βÄΠ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―é―² –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄, –≤–Μ–Η―è―é―â–Η–Β –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à―É―é ―¹―É–¥―¨–±―É.
–Γ–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ–ΗβÄΠ –†–Β–¥–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Α. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Α, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Β―¹―²―Ä–Η―΅–Κ―É: ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α, ―²―΄ –Ϋ–Β –±–Ψ–Ι―¹―è βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Μ–Κ, ―ç―²–Ψ –Ω–Α–Ω–Α¬Μ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―΅–Η―¹―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η–Κ–Η, –±―΄–Μ–Η –Η ―΅–Α―¹―²―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―΄ –Η –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Φ–Β―¹―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö ―²–Ψ–Ι –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Β―â―ë ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η―²―¨ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ε–¥―΄ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ. –ö–Α–Κ –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤, –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ: ¬Ϊ–ß–Β–Φ ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι, ―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ –Μ―É―΅―à–Η–Ι ―¹–Β–Φ―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ. –Θ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –‰ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η ―²–Β–Φ―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Α–≤–Α. –Γ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –ê –Β―¹–Μ–Η –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, ―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Κ–Α–Κ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η–Μ–Η ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ê –¥–Μ―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ―É –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ψ―² ―²―Ä―ë―Ö –¥–Ψ ―à–Β―¹―²–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö. 1981 –≥–Ψ–¥. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Η ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É. –û–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β βÄ™ –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―è―΅–Κ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ϋ–Α―Ä―É–Ε―É. –ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±―΄―²–Η―è –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α–Φ–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, ―à–Β―¹―²―¨―é –Φ–Β―¹―è―Ü–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―¹―²―΄–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―Ä―¹–Β―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é 3 –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι. –ß–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ψ–Ϋ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤ 51 –≥–Ψ–¥ –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥―É –Η –Ϋ–Η –Κ–Α–Κ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –≤–Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Ϋ–Α –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α βÄ™ ―²―Ä–Β―²―¨―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ–Α –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η–Ζ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Μ–Μ–Β―Ä–≥–Η–Η –Η –¥–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Η. –‰ –Ψ–Ϋ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ ¬Ϊ–±–Ψ–Ι¬Μ: –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β –Η –î–Ψ–Φ–Β ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –¥–Β–Ω―É―²–Α―² –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α. –‰ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹―Ä–Β–¥―É –Ψ–±–Η―²–Α–Ϋ–Η―è βÄ™ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η –°–≥–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η–Φ. –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, 37 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ 2000 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹―É, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –≥–Α–Ζ–Β―²–Α―Ö: –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö, –Κ–Η–Β–≤―¹–Κ–Η―Ö, ―¹–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö, - ―¹―²–Α―²―¨–Η –Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ (–Γ.-–ü–Η―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ) 37 –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Η–Φ–Β―è –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Α–≤–Α–Ϋ―²―é―Ä–Η–Ζ–Φ–Α, ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ ¬Ϊ–Ψ―² ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―è¬Μ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Α―Ö –ù–Β–≤―΄ –≤ –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ: 41 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –≤ 2004 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β. –Γ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―¨―ë–Ι ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Κ –Φ―ç―Ä―É –û–¥–Β―¹―¹―΄ –†.–ë. –ë–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―É –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η―²―¨ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι ¬Ϊ–¥–Β―¹–Α–Ϋ―²¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –≤ –‰―²–Α–Μ–Η–Η, –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –≤ –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ. –ü–Η―¹―¨–Φ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―²―Ä―ë―Ö –Μ–Η―¹―²–Α―Ö. –£–Μ–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―ë–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Η–Μ–Η―²―¨. –‰ –Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ –Ψ–±–Η–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ: ¬Ϊ–†―É―¹–Μ–Α–Ϋ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Α―à―É –Ω–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²–Η βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Η―²–Β!¬Μ –€―ç―Ä –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅―ë–Μ –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–≤–Η―Ü–Β¬Μ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η―²―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é. –£ –‰―²–Α–Μ–Η–Η –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, –Α –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –≥–Ψ–¥, 2002-–Ψ–Φ, –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü–Α―¹―¹–Α―É –Ϋ–Α –î―É–Ϋ–Α–Β –Ζ–Α―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹ ―΅–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –£ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β –Ε–Β –Ϋ–Α 40 –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –≤―΄–¥–Α–Μ–Η ¬Ϊ–±―É–Μ–Α–≤―ɬΜ, ―²–Ψ –±–Η―à―¨ –Γ―²–Β–Μ―É ―¹ 40-–Κ–Α –≤―΄–≥―Ä–Α–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –½–Α –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η - –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Λ–Ψ―Ä―É–Φ–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –û―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ –€―ç―Ä–Η–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ ¬Ϊ–½–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ¬Μ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Κ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Α–Ϋ―²―É –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι –Ζ–Α ¬Ϊ–ë–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É¬Μ –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―É –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Η ―ç―²–Ψ―² –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –½–Ϋ–Α–Κ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ ―ç―²–Η–Φ –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –¥–≤–Α–Ε–¥―΄.
–‰–Φ–Β–Β―² –¥–Ψ―΅–Κ―É –Η ―¹―΄–Ϋ–Α βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ω–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―é. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –≤–Ϋ―É–Κ ―¹–Ψ 2-–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ –Ψ―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ω–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―é. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α–Φ –°–Μ–Η–Η –Η –û–Μ–Β―¹–Η ―Ä–Α―¹―²―É―² ―²―Ä–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É–Κ–Α: –ù–Η–Κ–Η―²–Α, –ê–Μ―ë―à–Α, –ü–Α–≤–Μ―É―à–Α –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α –ù–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Α. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö ―É –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –≤―¹–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄.
–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β
¬Ϊ–Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨ 1957 –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―² 1959 –≥–Ψ–¥
–£ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Γ–Η–Μ–Α–Φ–Η –Δ–û–Λ¬Μ
–û―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É–¥–Α –¥–Μ―è –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –±–Α–Ζ–Α–Φ. –½–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α –ê.–ü. –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É –Ϋ–Β –±–Β–Ζ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α –Ψ―² 4 ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, –Φ–Η–Ϋ―É―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, (―Ä–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α), –≥–¥–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α.
–Δ/―Ö ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–ΚβÄ™–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι¬Μ βÄ™ –ö–Η―²–Α–Ι, –Ω–Ψ―Ä―² –î–Α–Μ―è–Ϋ―¨ (–±―΄–≤―à–Η–Ι –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι), –ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä.
–Δ/―Ö ¬Ϊ–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ βÄ™ –ö–Α–Ϋ–Α–¥–Α (–£–Α–Ϋ–Κ―É–≤–Β―Ä).
–Δ/―Ö ¬Ϊ–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –†–Α–Ζ–Η–Ϋ¬Μ βÄ™ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –€–Η–¥―É―ç–Ι: –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ε―ë―¹―²–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ ¬Ϊ–Φ–Η–¥–Β–Μ―é¬Μ, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ 5 ―¹–Φ. –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β
–Δ/―Ö ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Α¬Μ βÄ™ –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ –Ζ–Α 200 –Φ–Η–Μ―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Λ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Α (–Δ–Α–Ι–≤–Α–Ϋ―¨) –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ß–ü ―¹ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Δ―É–Α–Ω―¹–Α¬Μ, –Η –¥–Α–Μ–Β–Β: –£―¨–Β―²–Ϋ–Α–Φ, –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η―è, –Γ–Η–Ϋ–≥–Α–Ω―É―Ä, –ö–Ψ–Μ–Ψ–Φ–±–Ψ (–®―Ä–ΗβÄ™–¦–Α–Ϋ–Κ–Β), –‰–Ϋ–¥–Η―è, –Γ―É―ç―Ü–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ, –ë–Ψ―¹―³–Ψ―Ä, –û–¥–Β―¹―¹–Α –Η ―²―É–¥–Α, ―¹―é–¥–Α –Ω–Ψ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é: –ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ, –Δ―É–Α–Ω―¹–Β, –ü–Ψ―²–Η, –ë–Α―²―É–Φ–Η. –‰ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―¹ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ –£―¨–Β―²–Ϋ–Α–Φ –Η –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η―é. –£–Ψ –£―¨–Β―²–Ϋ–Α–Φ–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ ―É―¹―²―Ä–Α―à–Α―é―â–Β–Ι –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–Φ –Γ–®–ê. –Θ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –≤―¹–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―²/―Ö ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Α¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―²―É―¹ ¬Ϊ–Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι¬Μ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α.
–Δ/―Ö ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ¬Μ βÄ™ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β―²―Ä―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹ ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―à–Α―Ö―²–Α–Φ–Η –≤ –Β–≥–Ψ –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ù–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥, 1958 βÄ™ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –€–Α–Ι–¥–Ζ―É―Ä―É.
|
|
39. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Ψ–Ι –¹–•–‰–ö –£ –Δ–Θ–€–ê–ù–ï-4
| |
–ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ –ö–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η
¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β βÄ™ 4¬Μ ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Φ
¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―²―Ä–Η¬Μ
–£―΄–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ε–Α–Ϋ―Ä –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–≠―¹―¹–Β¬Μ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Φ–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –‰ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ ¬Ϊ–Κ ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–ΨβÄΠ?¬Μ. –ü–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é ―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Β―â―ë ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–Ι ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.
–‰―²–Α–Κ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é.
 βÄΠ–ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Μ–Α―à –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ: –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ë–Α―Ä–Α–±–Α―à–Α –Η –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Η –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Μ–Η―Ö–Ψ –Ψ―²–Ω–Μ―è―¹―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β–Ζ–≥–Η–Ϋ–Κ―É.
βÄΠ–ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Μ–Α―à –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ: –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ë–Α―Ä–Α–±–Α―à–Α –Η –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Η –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Μ–Η―Ö–Ψ –Ψ―²–Ω–Μ―è―¹―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β–Ζ–≥–Η–Ϋ–Κ―É.
–ü–Α–Μ–Α―à βÄ™ –Ω―Ä―è–Φ–Α―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Α–±–Ψ―Ä–¥–Α–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Α–±–Μ―è. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅–Β–Φ –Φ―΄ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ βÄ™ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―¹ –Ω–Α–Μ–Α―à–Α–Φ–Η. –£ ―²–Β–Α―²―Ä–Α―Ö –Η –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Κ–Β –Ω–Α–Μ–Α―à –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Β―à–Α–Μ–Κ―É, –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –î–Α–Ε–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β βÄ™ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Α–Μ―¨–Φ–Η―Ä–Β ―¹ –Β―ë –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Η―à–Κ–Ψ-―è–Ω–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è–Φ–Η –Β―¹–Μ–Η –Κ–Α―²–Κ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, ―²–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –‰ –¥–Μ―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ. –ë–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α10 (–¥–Ψ–Φ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è–Φ–Η) –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β ―²–Β–Α―²―Ä―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –≤–Β―à–Α–Μ–Κ–Η.
–ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―ç―²–Η―Ö –Ω–Η–Ε–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ–±–Β–Ε―Ü–Β–≤ βÄ™ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Κ―Ä–Α–Β–≤―΄–Φ–Η, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –ê ―ç―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤―¹―è –Ζ–Η–Φ–Α βÄ™ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –€―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Ι ―¹–Β―¹―¹–Η–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹ –Κ–Α―²–Κ–Α –≤ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Α―Ö. –≠–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η –Η ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ ―²―Ä–Η –±–Α–Μ–Μ–Α –Ζ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄: –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η, –Κ―É–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β¬Μ.
–ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η ―¹―²–Β–Ϋ―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –±―É–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –±–Β–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –Η –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Β–≥–Ϋ―É―²―¨ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι –Κ―Ä―é―΅–Ψ–Κ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η. –ê ―²–Α–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Η―²–Β―Ä–Α. –ê ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Β―â―ë –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –±–Β–Μ–Ψ–Φ ―¹–≤–Η―²–Β―Ä–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―è–Κ–Ψ―Ä―¨, –≤―΄―à–Η―²―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ü –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι βÄ™ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η (10 –Κ–Φ -2 5 –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Κ–Β). –ß―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Φ–Ψ–Β–Ι ―²―Ä–Ψ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ –≤―¹―è–Κ–Η–Φ ―²–Α–Φ –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―É–Κ–Α–Φ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ü –±―΄–Μ–Α –Η –Φ–Ψ―è –±―É–¥―É―â–Α―è –Ε–Β–Ϋ–Α βÄ™ –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –†―É–±–Α–Ϋ –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 1, –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Η, –Η–Φ–Β–Μ–Η ―à–Β―³―¹―²–≤–Ψ.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ω–Η–Ε–Ψ–Ϋ–Α–Φ βÄ™ ―Ä–Α―¹―¹―²–Β–≥–Ϋ―É―² –≤–Ψ―Ä–Ψ―² ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η, –±–Β–Μ―΄–Ι ―¹–≤–Η―²–Β―Ä, –Ω–Ψ–¥ –Φ―΄―à–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–Ε–Η¬Μ –≤ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β―Ö–Μ–Α―Ö, –Α ―¹ –±–Ψ–Κ―É –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α–Μ–Α―à. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ ―¹―΄–Ζ–Φ–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β. –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –±―É–¥–Β―² –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≥–Μ–Α–≤―΄.
–î–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É: ¬Ϊ–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅―¨―²–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―É 10% –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η, –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η 20% –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Η 50% –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Ω―Ä–Η 100% –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Β―² –≤―¹–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η 300% –Ϋ–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―Ä–Η―¹–Κ–Ϋ―É–Μ, –±―΄ –Ω–Ψ–Ι―²–Η, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ –≤–Η―¹–Β–Μ–Η―Ü―΄". –≠―²–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―²―É, –Ω―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²―É –Δ–Ψ–Φ–Α―¹―É –î–Ε–Ψ–Ζ–Β―³―É –î–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ϋ–≥―É, –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤ "–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Β" –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä–Κ―¹. –ß―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±–Μ–Α―΅–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ-―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄.
–ï―¹–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―è ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ –‰–Φ―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―²–Α –Δ–Ψ–Φ–Α―¹–Α –î–Ε–Ψ–Ζ–Β―³–Α –î–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ϋ–≥–Α ―¹ –Β–≥–Ψ: ¬ΪβÄΠ–Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅―¨―²–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―É 10% –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–ΗβÄΠ¬Μ, ―²–Ψ –≥–¥–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨, –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―ç―²―É –Ψ―¹―²―Ä―É―é ―²–Β–Φ―É ¬Ϊ–≤―¹–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤¬Μ βÄ™ ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±–Μ–Α―΅–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ - ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η
–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―ë –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β, –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―ç–Κ―¹–Κ–Μ―é–Ζ–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≥―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε―É ―¹ –Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–Θ―΅–Β–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Η―à―¨βÄΠ¬Μ. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –¥–Μ―è ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö ―¹ –€–Η―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –‰–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ.
–‰―²–Α–Κ, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α –ü. –Δ–Β–Ι―è―Ä –¥–Β –®–Α―Ä–¥–Β–Ϋ –Η –≠. –¦–Β―Ä―É–Α, –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –£–Β―Ä–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι, –≤–≤–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α (–Ψ―² –≥―Ä–Β―΅. βÄî ―Ä–Α–Ζ―É–Φ –Η ―à–Α―Ä) –Κ–Α–Κ –Ψ–±–Μ–Β–Κ–Α―é―â–Η–Ι –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α―Ä –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Φ―΄―¹–Μ―è―â–Β–Ι¬Μ –Ψ–±–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Α―è –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ϋ–Α –½–Β–Φ–Μ–Β, –Α ―¹–Α–Φ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ βÄ™ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―â–Α―è –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―É ―¹–Η–Μ–Α.
–£–Β―Ä–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ϋ―ë―¹ –≤ ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α βÄî –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ–±–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Α –½–Β–Φ–Μ–Η βÄ™ –≤―΄―¹―à–Α―è ―¹―²–Α–¥–Η―è –±–Η–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄, –Φ–Β–Ϋ―è―é―â–Α―è―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―² –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι¬Μ. –≠―²–Α ―¹–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ―΄―¹–Μ―¨―é –Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² –±–Η–Ψ―¹―³–Β―Ä―É ¬Ϊ–≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ―΄―¹–Μ―è―â–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α –Κ–Α–Κ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ¬Μ.
–ß―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―². –ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹ ―²–Β–Φ, –Ψ ―΅―ë–Φ –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Η, ―É―²–Ψ–Ω–Η―¹―²―΄-―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ XVII βÄ™ XVIII –≤–≤, ―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –£–Β―Ä–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―É ―²–Β―Ö ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Φ―¹―è ―¹ –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄ –Ϋ–Α –≥―Ä–Β―à–Ϋ―É―é –½–Β–Φ–Μ―é. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―² –®–Α―Ä–Μ―¨ –Λ―É―Ä―¨–Β, ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²-―É―²–Ψ–Ω–Η―¹―², –Φ–Β―΅―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ψ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –€–Η―Ä–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η―² –¦―é–±–Ψ–≤―¨. –Γ–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄ βÄ™ –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Η–Η. –‰ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε―ë–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η―è–Φ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β―΅―²–Α–Φ–Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –≥―Ä―É–±–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –Λ―É―Ä―¨–Β ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è―²―¨ –Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–Μ–Α –Η –Ω―É―²―è―Ö ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―²―¨ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–Α –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –≤ –Ω–Α―Ä–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―΅―²–Η, –≤ ―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β, ―΅–Β–Φ –≤ –ù–Ψ―Ä–Φ–Α–Ϋ–¥–Η–Η. –≠―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–≤–Β―Ä–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Α
–ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à―ë–Μ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ι βÄ™ ¬Ϊ–Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α, –†–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ¬Μ.
–≠–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η―è. –≠–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ω–Η―²–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―²–Ψ―Ä―É. –û―²―¹―é–¥–Α, –Η ―¹ –ü–Β―Ä–≤―΄―Ö –î–Ϋ–Β–Ι –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η ―¹ –Β–≥–Ψ –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Α ¬Ϊ–Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α, –†–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ¬Μ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η ¬Ϊ–†–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ¬Μ.
–ù–Α ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β –Μ–Β―² –Λ―É―Ä―¨–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ: ¬Ϊ–£ –€–Η―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Α. –î–≤–Α –≥–Η–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö βÄ™ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Η –ï–≤―΄ –Η –ü–Α―Ä–Η―¹–Α. –‰ –¥–≤–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –ù―¨―é―²–Ψ–Ϋ–Α –Η –Φ–Ψ―ë¬Μ. –ï―¹―²―¨ –Η –Ω―è―²–Ψ–Β βÄ™ –Ϋ–Α–¥–Κ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –Λ―É―Ä―¨–Β –Ψ –Ϋ―ë–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤―É ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Β―â―ë –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è.
–Λ―É―Ä―¨–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Α–Φ–Η βÄ™ –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Β–Ω–Β―²βÄΠ. –ê ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨?!. –£ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Η, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É–Β–Φ –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²―É, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ–Η–Φ –Β―ë –≤ ―²―É–Ω–Η–Κ. –•–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ―É. –€–Α―Ä–Κ –™–Μ–Η―Ü–Η–Ϋ–Η–Ι –ö―Ä–Α―¹―¹ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Β―Ü –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨ –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –≤―Ä–Α–≥–Η –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Η –Ζ–Α–Μ–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –Β–Φ―É –≤ ―Ä–Ψ―² βÄ™ –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Α–Μ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰–Ζ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄ™ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ ―É–Ε –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―ç―²–Η, –Ϋ–Α–±–Η–≤―à–Η–Β –Ψ―¹–Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ―É, ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –±–Α―²–Ψ–Ϋ―΄¬Μ. –†–Α―¹–Ω–Μ–Α–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é.
–î–Α, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –ö―Ä–Α―¹―¹–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –≤ –¥–Ψ–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η. –ù–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Κ –Ϋ–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä―è–Β―² –Η―Ö –≥–Ϋ―É―¹–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β. –‰ –≤ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Β –Ζ–Α ―¹–≤–Β―Ä―Ö–Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨―é, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α 300%, ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Η―² –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Η―¹–Β–Μ–Η―Ü―É. –î–Α–Ε–Β –ê–Μ–Μ–Α –ü―É–≥–Α―΅―ë–≤–Α –Η ―²–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ¬Ϊ–Κ–Α–Κ –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ –Α–Ι―¹–±–Β―Ä–≥ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β¬Μ. –ê –î–Ε–Ψ–Ϋ –Γ–Φ–Η―² βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ¬Ϊ–Δ–Η―²–Α–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä―ë–≥ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ―à–Ω–Α―Ä–Η–Μ¬Μ –≤ –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –≤–Ψ–Ε–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –ü―Ä–Η–Ζ–Α–Φ–Η. –ö–Α–Κ–Η–Β ―¹―²–Α–≤–Κ–Η –±―΄–Μ–Η!!! –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨.
–£ ―É–≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Α–≤―è―â–Β–≥–Ψ –€–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Α ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―é―²―¹―è ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Ζ–Μ–Ψ―΅–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ¬Μ.
–ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ―¨―é –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α. –™–Ψ–Ϋ–Κ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β―ë –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨, ―².–Β. –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.
–½–¥―Ä–Α–≤―΄–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Μ–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–≤–Α –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö, –≤–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö, –±–Β–≥―É―² ―¹ –Η―¹–Κ–Α–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ―¹ ―Ä―É–Ε―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹ –≤ ―à―²―΄–Κ–Ψ–≤―É―é –Α―²–Α–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Κ–Α–Μ–Β―΅–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –ê ―²–Ψ―² ―¹ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±―É –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β―² –Ζ–Α –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Η–Φ. –†–Α–¥–Η ―΅–Β–≥–Ψ?!! –ß―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Κ –≤ ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ ―²–Α–ΦβÄΠ ¬Ϊ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ï–Μ–Β–Ϋ–Β¬Μ. –ï―â―ë –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²–Η. –ï―¹–Μ–Η, –£―΄ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Η–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β, ―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ. –£ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η –¥–Β―²–Η βÄ™ –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü―΄. –†–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Η –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–±–Β–≥–Α–Μ–Η?¬Μ –‰ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ―² –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ –≤–Μ–Α–Φ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β –≤–Β―¹―¨ ―É–Ε–Α―¹ ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ ―²–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Η ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤.
–Ξ–≤–Α―²–Η―² –¥―É―Ä―¨―é –Φ–Α―è―²―¨―¹―è, –Η –±―Ä―è―Ü–Α―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ!!! –£―¹―è –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η. –‰―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 70-―²–Η. –£ 31 ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Φ–Η―Ä–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Η―Ä―É―é―²―¹―è 191 –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ―¹ 449 ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Ψ–±–Μ–Ψ–Κ–Α–Φ–Η ... –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β βÄ™ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É –±―É–¥–Β―² ―¹ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―¹–Α―Ä–Κ–Ψ―³–Α–≥–Η.
–Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è, –Η –Ω–Η―à–Β―²―¹―è –Ψ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η. –ê –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –±―΄, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ψ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―É–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –‰ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤, ―É―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ –±―é–¥–Ε–Β―²―΄ –ü–†–û–Δ–‰–£–û–Γ–Δ–û–·–ù–‰–·. –û –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ ¬ΪHomo sapiens βÄ™ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι¬Μ–Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―΅―¨, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄-–Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Κ–Η βÄ€–Γ―²–Β–Μ―¹βÄù –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ –Γ–®–ê 9 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, –Α –Φ–Ψ―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é –Ε–Η–Μ―¨―è –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α βÄ™ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Ϋ–Α―à–Α –û–¥–Β―¹―¹–Α. –£―¹–Β –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –€–Η―Ä–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―è―²―΄–Β ―²―Ä–Α―²―è―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥. –ö–Α–Κ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄!!! –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ–Φ–Η―Ä–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Β–¥–Α–Β―². –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–≥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Α–Κ–Μ–Η–Ζ–Φ―΄ ―¹–Ψ–¥―Ä–Α–≥–Α―é―² –ù–Α―à –î–Ψ–Φ, –ù–Α―à―É –½–Β–Φ–Μ―é!!! –™–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±―é–¥–Ε–Β―² –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Γ–®–ê –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ 250 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ (–Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Β―ë βÄ™ 25 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤). –£–Ψ―² ―Ü–Β–Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Η―è, –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Α―â–Α―è ―¹ –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β–Φ –Η –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²―¨―é. –≠―²–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Φ―΄―¹–Μ–Η―² –Η–Ϋ–Α―΅–Β βÄ™ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –î–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ϋ–≥―É: ¬ΪβÄΠ–Ω―Ä–Η 300% (–Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η) –Ϋ–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―Ä–Η―¹–Κ–Ϋ―É–Μ –±―΄ –Ω–Ψ–Ι―²–Η, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ –≤–Η―¹–Β–Μ–Η―Ü―΄¬Μ.
–•–Ψ―Ä–Ε –ë–Β―Ä–Ϋ–Α―Ä–¥ –®–Ψ―É, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –¥―Ä–Α–Φ–Α―²―É―Ä–≥, –≤―Ä–Α–≥ –Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Η―è, ―Ö–Α–Ϋ–Ε–Β―¹―²–≤–Α, –Α–≤―²–Ψ―Ä –±–Μ–Η―¹―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―¨–Β―¹ –Η ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Α―³–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―², –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä, –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Η–Κ –Η –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ. –¦–Α―É―Ä–Β–Α―² –ù–Ψ–±–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è, –Ζ–Α―è–≤–Η–≤: ¬Ϊ–· –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –ù–Ψ–±–Β–Μ―é –Ζ–Α –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―²–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―¨―è–≤–Ψ–Μ –≤ –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±–Μ–Η―΅–Η–Η –Φ–Ψ–≥ –≤―΄–¥―É–Φ–Α―²―¨ ―ç―²―É –Ω―Ä–Β–Φ–Η―é¬Μ.
–ï―¹–Μ–Η ―É –ö–Α―Ä–Μ–Α –ö–Μ–Α―É–Ζ–Β–≤–Η―Ü–Α ―¹ –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Ψ–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α (–Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Β): ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –Η–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η¬Μ,- ―²–Ψ –Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―΅―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―¹―¨ –€–Η―Ä –Ϋ–Α–Ω–Η―΅–Κ–Α–Ϋ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –‰ –¥–Α–Ε–Β, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β, ―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –½–Β–Φ–Μ–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―², –Α ―¹–Α–Φ–Α –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Α –≤―΄–Ω–Α–¥–Β―² –Η–Ζ –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–≤ –Β–≥–Ψ –™–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―é.
–û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―² –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Φ–Ϋ–Β –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²–Η–Μ–Β ¬Ϊ–≠―¹―¹–Β¬Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. –ù–Ψ ―è, –≤―¹―ë –Ε–Β, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É―é –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Ψ –≤―¹―ë ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –€–Η―Ä–Β, –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β–Φ–Ψ–Β –≤ ―ç–Ω–Η–≥―Ä–Α―³–Β –Κ ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ―É-βÄΠ¬Μ βÄ™ ¬ΪβÄΠ–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-―ë–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―èβÄΠ¬Μ. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―¹―ë―²―¹―è –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β―è―â–Η–Κ–Α –Η ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―²―é–≥–Α. –ù–Ψ, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²―É–Ω–Η–≤ –≤–Ζ–Ψ―Ä, –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è―Ö –Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α―Ö ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –€–Η―Ä–Β.
–ù–Α―΅–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ –Θ–Φ―΄ –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –ü―Ä–Ψ―à–Μ―΄―Ö –£―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ.
–ë–ΒΧ¹–Ϋ–¥–Ε–Α–Φ–Η–Ϋ –î–Η–Ζ―Ä–Α―çΧ¹–Μ–Η (1804-1881, ―¹ 1876 –≥–Ψ–¥–Α –≥―Ä–Α―³ –ë–Η–Κ–Ψ–Ϋ―¹―³–Η–Μ―¨–¥) βÄî –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η, 40-–Ι –Η 42-–Ι –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä-–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η, ―¹ 1874 –Ω–Ψ 1880 –≥–Ψ–¥, ―΅–Μ–Β–Ϋ –Ω–Α–Μ–Α―²―΄ –Μ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤ ―¹ 1876 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ¬Ϊ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α¬Μ.
¬Ϊ–ë–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥–≤–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β. –î–≤–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Ϋ–Η ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―è; –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―² –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Β–Κ, –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²; –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―² –¥–Β―²–Β–Ι, –Ω–Η―²–Α―é―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η―â–Β–Ι... –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ε–Η–≤―É―² –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ...¬Μ
–ö –Φ–Β―¹―²―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –£.–£. –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ:
–ï―à―¨ –Α–Ϋ–Α–Ϋ–Α―¹―΄,
―Ä―è–±―΅–Η–Κ–Η –Ε―É–Ι!
–î–Β–Ϋ―¨ ―²–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι
–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―², –±―É―Ä–Ε―É–Ι!
–ù–Η –Ψ―³―³―à–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ψ–Ϋ―΄, –Ϋ–Η –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β street`―΄ –Ϋ–Β ―É–±–Β―Ä–Β–≥―É―² –Η―Ö –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Α.
–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤―²–Ψ―Ä–Η―² –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Π–≤–Β―²–Α–Β–≤–Α:
–ï―¹–Μ–Η –¥―É―à–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Ψ–Ι,
–ß―²–Ψ –Β–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Φ―΄, ―΅―²–Ψ –Β–Ι ―Ö–Α―²―΄,
–ß―²–Ψ –ß–Η–Ϋ–≥–Η―¹ –Ξ–Α–Ϋ –Β–Ι –Η ―΅―²–Ψ –û―Ä–¥–Α.
–î–≤–Α –Ϋ–Α –€–Η―Ä―É ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―Ä–Α–≥–Α βÄ™
–î–≤–Α –±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Α –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Η―²―΄―Ö βÄ™
–™–Ψ–Μ–Ψ–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―΄―²–Ψ―¹―²―¨ ―¹―΄―²―΄―Ö.
–ë–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Κ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β –Π–≤–Β―²–Α–Β–≤–Ψ–Ι –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –Γ–®–ê –û–±–Α–Φ–Α:
¬Ϊ–≠―²–Η –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄–Β ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―²―΄!¬Μ
–™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –î―É–Α–Ι―² –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―Ö–Α―É―ç―Ä, –≥–Β―Ä–Ψ–Ι –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, 34-–Ι –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –Γ–®–ê, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É –≤ 1953-1961 –≥–Ψ–¥―΄, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Ι ―¹–Μ–Β–¥ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Α ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹¬Μ (–£–ü–ö), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―Ö–Ψ–¥. –û ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –£–ü–ö –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―Ö–Α―É―ç―Ä –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β―΅–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α 17 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1961 –≥–Ψ–¥–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥: ¬Ϊ–€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α ―¹ –Β–≥–Ψ –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α–Φ –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹―ɬΜ. –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―Ö–Α―É―ç―Ä –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―É―é –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Ι –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ¬Ϊ–±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ¬Μ. –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―Ö–Α―É―ç―Ä –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ–Β–Ι –Γ–®–ê, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –®―²–Α―²―΄ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–Φ–Ψ–≥―É―â–Η –Η –Η–Φ –Ϋ–Β –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ.
–™–Β–Ϋ―Ä–Η –Λ–Ψ―Ä–¥, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: "–Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ϋ–Α―à―É –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―É―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η ―ç―²–Η–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, ―²–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –±―΄ ―É –Ϋ–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ."
–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –®―²–Α―²―΄ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β―é―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Λ–†–Γ (–Λ–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –†–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Α―è –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α) –Γ–®–ê. –≠―²–Ψ―² –¥–Ψ–Μ–≥ –Γ–®–ê –±―É–¥―É―² –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨. –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ―Ä–Β–¥–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –¥–Β–Ω―É―²–Α―²―΄ –Γ–®–ê, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―΄ –≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―΄ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―΄.
–≠―²–Ψ –Κ–Ψ―¹–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –†–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι –Γ–®–ê –ê–Μ–Α–Ϋ –™―Ä–Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Ϋ, –≤ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é: "–ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Λ–†–Γ - –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ–Β –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Ψ. –≠―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―² ―²–Α–Κ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ψ―¹–Ω–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è."
–£–Β–Ζ–¥–Β―¹―É―â–Η–Β –Γ–€–‰ (–Γ―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η) –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄. –Ξ–Ψ―²―è –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄ –≤–Μ–Β―΅―ë―² –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β ―Ü–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä―΄. –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É―²–Η –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Α―²―¨ ―Ü–Β–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―Ü–Β–Ϋ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α (―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ!!!) βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Β―² –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―² –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β βÄ™ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ü–Η–Η. –ê ―¹–Α–Φ –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η –ù–Α―É–Κ–Α, –û–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Η –ü―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Μ–Η―Ü–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –ö–Α–Κ –Ε–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ:
–û–Κ–Ϋ–Α
―Ä–Α–Ζ–Η–Ϋ―É–≤,
―¹―²–Ψ―è―² –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΄.
–ü–Ψ–¥―΄―²–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≠–Φ–Φ–Α–Ϋ―é―ç–Μ–Β–Φ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Ψ France Presse. –‰–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Η–¥–Β―Ä –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –≤ –ï–Μ–Η―¹–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–· ―¹―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Φ–Η―²–Ψ–Φ G7 –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Α–Μ–Η―Ü–Η–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄¬Μ, βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ. –û–Ϋ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–Ζ–Α―Ä–Ε–Α–≤–Β–Μ–Α¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η. ¬Ϊ–ê ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η ―¹–Ψ―à–Β–Μ ―¹ ―É–Φ–Α βÄ™ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ ―²–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α, ―É―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η¬Μ, βÄ™ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ.
–€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η, –Ψ–Ϋ –≤ 2008βÄ™2011 –≥–≥. ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä–Ψ–Φ, –Α ―¹ 2011 –Ω–Ψ 2012 –≥. –±―΄–Μ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Φ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –ë–Α–Ϋ–Κ–Α –†–Ψ―²―à–Η–Μ―¨–¥–Α. –Γ 2014 –Ω–Ψ 2016 –≥. –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―² –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –€–Α–Κ―Ä–Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ ―΅―ë–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―².
–ê –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Ψ–Ϋ–Η, ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄–Β –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹: ¬Ϊ–û ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι –ù–Α―Ä–Ψ–¥―΄ –€–Η―Ä–Α, –¦―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―΄¬Μ.
–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ. –™―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –≤―¹–Β ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄―²–Η―è, –Ϋ–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Α–Κ –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Β–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―²–Α–Κ –Η ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Η―Ä–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ, –Ψ ―΅―ë–Φ –±―É–¥–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Β βÄ™ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Η–Φ –≤ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―Ü–Β–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –ß―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ.
–Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω –ë–Α―Ä–Ϋ–Β―²―² –Λ―Ä–Α–Ϋ–Κ–Μ–Η–Ϋ –≠–Ι–¥–Ε–Η, βÄî –±―΄–≤―à–Η–Ι –Α–≥–Β–Ϋ―² –Π–†–Θ, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β–±–Β–Ε―΅–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ –Ζ–Α –≤―¹―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –Θ–≤–Ψ–Μ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Π–†–Θ –≤ 1969 –≥., –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥, ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ―É―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α. –ï–≥–Ψ –Ζ–Α ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ω–Ψ–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ê –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨: ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Η –±–Β–Ζ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Β–Κ, –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―¹ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ 500 –¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ - ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄, –Κ–Α–Κ –≤―΄ –≤–Η–¥–Η―²–Β, –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Η–Β¬Μ. –≠―²–Η―Ö –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –≤―΄―΅–Η―¹–Μ―è―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –û–Ϋ–Η –≤―¹–Β–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Η–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ/–¥/–Μ–Η―Ü―É¬Μ.
–½–±–Η–≥–Ϋ–Β–≤ –ë–Ε–Β–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Β –ü–†–û (–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Α―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α), ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―² –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Ϋ―É―²―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö –Μ–Β–Ε–Η―² $500 –Φ–Μ―Ä–¥., –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Η―²–Β. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ: ¬Ϊ–£―΄ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―²–Β―¹―¨, ―΅―¨―è ―ç―²–Ψ ―ç–Μ–Η―²–Α βÄ™ –≤–Α―à–Α –Η–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―à–Α¬Μ. –≠―²–Α ―ç–Μ–Η―²–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―é ―¹―É–¥―¨–±―É ―¹ ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –Θ –Ϋ–Η―Ö –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―É–Ε–Β ―²–Α–Φ, –¥–Β―²–Η ―É–Ε–Β ―É―΅–Α―²―¹―è ―²–Α–Φ... –î–Β–≥―Ä–Α–¥–Α―Ü–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―ç–Μ–Η―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –≤―¹―ë ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ω–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β.
–î–Α, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–≥ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Ζ–Α –Φ–Ψ–Η –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―¹―²–Α–≤–Κ–Η. –û–Ϋ–Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É ―²–Β–Κ―¹―²–Α. –ê –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Φ–Η–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Κ–Α―¹–Α―é―¹―¨ ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –î–Α, –Η –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Β ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ―à―ë–Μ –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –≤–Ζ―è–≤―à–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Ψ. –Θ –™–Β―Ä―Ü–Β–Ϋ–Α –Β―¹―²―¨, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ ―É–Ζ–Ψ–Κ –Κ―Ä―É–≥ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Κ―É–¥–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―² –Ω―É―²―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ.
30-40 –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Β –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β: ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²―΄, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η, ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η, ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―²―΄ –Η –Ω―Ä. ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ –≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ –Κ―É–¥–Α ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Μ–Β–Ζ–Β―² –Ϋ–Β –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―³–Β―Ä―É –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î–Α, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―é ―¹–Β–±–Β ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Η–Φ–Β―è –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Ι –≥―Ä―É–Ζ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–ö–û–€–ê–ù–î–‰–† –ü–û–î–£–û–î–ù–û–ô –¦–û–î–ö–‰-–Π–ï–ù–Δ–†–ê–¦–§–ù–û–ï –½–£–ï–ù–û, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –£–û–ï–ù–ù–û-–€–û–†–Γ–ö–û–ô –Λ–¦–û–Δ.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –ù–ê–ß–ê–Δ–§ –£–û–ô–ù–Θ, –£–ï–Γ–Δ–‰ –ë–û–ï–£–Ϊ–ï –î–ï–ô–Γ–Δ–£–‰–· –Γ –ü–†–‰–€–ï–ù–ï–ù–‰–ï–€ –·–î–ï–†–ù–û–™–û –û–†–Θ–•–‰–· –‰ –£–Ϊ–‰–™–†–ê–Δ–§ –£–û–ô–ù–Θ, –Θ–ù–‰–ß–Δ–û–•–‰–£ –Δ–û –‰–¦–‰ –‰–ù–û–ï –™–û–Γ–Θ–î–ê–†–Γ–Δ–£–û.
–≠―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β–¥―ë―²―¹―è –Η–Ζ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, –≤ ―΅―¨–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö ¬Ϊ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΅–Η–Κ¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ βÄ™ –Α ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹ –¦―É–≤―Ä–Ψ–Φ, –Α ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹ –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³–Ψ–Φ –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –±―É–¥–Β―² –Μ–Η ―΅―²–Ψ?!!!
–ù–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Γ–Ψ―Ü–Η―É–Φ–Α, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Α, –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―²–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―², ―¹–Μ–Β–¥―É―é―² –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ –Ω―è―²–Α–Φ, –Μ–Α―¹–Κ–Α―é―², –¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è―é―² –Η –±―¨―é―² –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Η –Η, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, –¥–Ψ―¹―¨–Β. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ö–™–ë –Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ–±–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²―É –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι.
–ù–Β –Μ–Η―à–Ϋ–Β –±―É–¥–Β―², –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ βÄ™ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Γ–®–ê –Λ―Ä–Α–Ϋ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α –†―É–Ζ–≤–Β–Μ―¨―²–Α –Η –ü―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –Θ–Η–Ϋ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―è –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α –ü―ë―Ä–Μ –Ξ–Α―Ä–±–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –†―É–Ζ–≤–Β–Μ―¨―² –±―΄–Μ –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É: –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨. –‰, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Β–Η. –‰, –Κ–Α–Κ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² βÄ™ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –ù–Α ―΅―²–Ψ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –Γ–®–ê ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: "–½–Α ―΅―²–Ψ ―è –Μ―é–±–Μ―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ - –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è ―΅–Β–Ω―É―Ö–Ψ–Ι". –£―²–Ψ―Ä–Η–Μ –Β–Φ―É –Θ–Η–Ϋ―¹―²–Ψ–Ϋ –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –Δ―É–Ϋ–Η―¹–Α –≤ –€–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―é, –Ϋ–Α –ö―É―Ä―¹―΄ ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (–≤―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö - –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–û–¦–Γ–û–ö'–Α). –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ - "–Μ–Β―²–Α―é―â–Α―è –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨", –Ϋ–Ψ "–ë–Ψ–Η–Ϋ–≥" –Ω–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –≤–Ζ–Μ–Β―²–Β―²―¨, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä. –ù–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ "–Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ?!" –ü―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: "–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤". –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤ 300 ―²―΄―¹―è―΅ ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤―¹―ë ―²–Β―Ö –Ε–Β ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤".
–î–Μ―è –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ε―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤.
ⳕ
–Ω–Ω |
–½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ |
–ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹―²–Α―²–Β–Ι
–Ψ–± –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η
–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö |
–ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ
―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü
–≤ –Θ―¹―²–Α–≤–Β |
| 1 |
–€–Α―²―Ä–Ψ―¹ |
3 |
4 |
| 2 |
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η |
9 |
4 |
| 3 |
–ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è |
7 |
3 |
| 4 |
–½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² |
2 |
4 |
| 5 |
–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α
|
10 |
5 |
| 6 |
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è |
56 |
27 |
| 7 |
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η |
19 |
6 |
–Δ–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹ ―²–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―â–Η―² –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Ψ–Ι. –‰ ―²―É–≥–Ψ –±―΄ –Β–Ι –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨, –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ¬Μ. (–≠―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ). –· ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―â–Η―²–Α, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Η–Φ–Β–Ϋ―É–Β–Φ –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β –ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ.
–£ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―¹―É–¥–Ϋ–Α βÄ™ –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ë–Ψ–≥–Α. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α―¹―¹–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹ –≤―΄―¹―à–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –≤ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –‰ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–≥–Α―à–Α―²―¨.
–ï―¹―²―¨ –Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―é, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α, –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η "–≤–Ψ―²―É–Φ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è". –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―². –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ ―¹―²―Ä–Ψ―é: "–½–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η!" –ê ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―é―², –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄, –≤–Μ–Η―è―é―â–Η–Β –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à―É―é ―¹―É–¥―¨–±―É. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤ –Η–Φ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄―Ö.
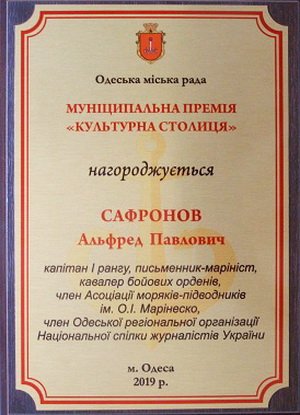 –ê –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –±―΄–Μ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë ―²―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ―à–Β–Μ―ë–Κ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―¹–≤–Β–Ε–Β–ΒβÄΠ
–ê –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –±―΄–Μ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë ―²―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ―à–Β–Μ―ë–Κ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―¹–≤–Β–Ε–Β–ΒβÄΠ
–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–≤ βÄ™ –ö―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε―É –™–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é ―¹―É―²―¨ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è.
–ö–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―². –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η―è –Η –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Φ–Β–Ε–¥―É ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Ψ–Φ, –Φ–Β–Ε–¥―É –±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Β ―¹–Β―é―² –Η –Ϋ–Β –Ω–Α―à―É―², –Η–Φ–Β―è ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η―¹―²–Ψ–Κ–Η –Ψ―² ―²–Β―Ö –Φ–Β–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²―É–Ω–Η–≤ –≤–Ζ–Ψ―Ä, ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Α―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö, –Φ–Β–Ϋ―è―è –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –Γ–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Α –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Β βÄ™ –±–Α–Ϋ–Κ–Α. –û―² –Ϋ–Η―Ö –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ: –±–Α–Ϋ–Κ–Η, –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä―΄βÄΠ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Η ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Α–≤―è―² –€–Η―Ä–Ψ–Φ. –ê –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―ç―²–Α –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α, –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Α―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É―²–Η, –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Α―²–Ϋ―΄–Φ, –≤ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ –Η―Ö –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η. –£ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η βÄ™ –±–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η-–≥―Ä–Α–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β: ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Ι –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹, –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―É–Φ–Α–≥ βÄ™ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―²―¹―è –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è!!! –Γ―²―Ä–Ψ―è―² ―¹–Β–±–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Φ–Κ–Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –ß―²–Ψ –Ε–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹ ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η, –¥–Β–Μ–Α―é―â–Η–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α?!! –ù–Α–¥ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β―â―ë –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è―²―¨!!!
–ê –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Μ―é–¥–Β–Ι –≤–Ϋ–Η–Ζ―É, –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤―è―â–Β–Ι ―ç–Μ–Η―²―΄ βÄ™ ―²―Ä–Β―à―¨ –Η –Φ―É―¹–Ψ―Ä. –≠―²–Ψ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ¬Ϊ–ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –†–Α–Ζ–±–Ψ–≥–Α―²–Β–≤―à–Α―è, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è, ―ç–Μ–Η―²–Α, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Α―è ―΅–Β―¹―²―¨, –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Α–Ε–Β –Η–Ϋ―¹―²–Η–Ϋ–Κ―² ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ 60% –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ζ–Α ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –û–û–ù –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β), –Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–≥―É―²―²–Α–Ω–Β―Ä―΅–Β–≤–Ψ–Ι¬Μ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Μ–Η, –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, ―²–Ψ –Μ–Η, –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―²–Α―Ü–Η–Η –≤–Β–Ζ―ë―² –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –Β―ë, –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä―΄. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –≥–¥–Β-―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è: ¬Ϊ–±–Α–±–Α―Ö–Α―é―²¬Μ, ―²–Ψ ―²–Α–Φ, ―²–Ψ ―¹―è–Φ βÄ™ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Ι –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–î–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –¥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α, –ß―É–±–Α–Ι―¹―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ¬Ϊ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥―Ä–Α–±–Η―²―¨ –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ. –Γ―²―Ä–Ψ―è―² ―¹–Β–±–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―è–Κ–Η ―¹ –±–Α―à–Ϋ―è–Φ–Η –Η –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Β–Μ―¨–Φ–Ψ–Ε–Α. –ê ―è―Ö―²―΄, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ―΄–Β, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―΅―É―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ―¹ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η. –ï―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Φ―¨―ë–Ι, –Β–¥–Β―² –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ζ–Φ–Ψ―Ä―¨–Β ―¹ ―Ü–Β–Μ―΄–Φ ¬Ϊ–≥–Α―Ä–Β–Φ–Ψ–Φ¬Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –‰–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Μ–Α―¹―²―è–Φ–Η. –‰ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ψ–±―à–Ψ―Ä–Α―Ö –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―΄, –ö―Ä–Η―²–Α –Η –≤ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Ι―³–Α―Ö. –‰―Ö –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―Ö –≥―É–±–Η―². –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―² 7 ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β –≤ –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ ―΅–Β―Ä–≤–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Ϋ–Κ–Α ―É –Ϋ–Η―Ö –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Η―Ö –Κ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β. –î–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α―é―â–Α―è –°–Ε–Ϋ–Α―è –ö–Ψ―Ä–Β―è –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α. –½–Α ―΅―²–Ψ ―ç–Κ―¹-–Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Η –ü–Α–Κ –ö―΄–Ϋ –Ξ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Κ 24 –≥–Ψ–¥–Α–Φ ―²―é―Ä―¨–Φ―΄. –ü–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Ψ―² –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –Ω–Β―΅–Α―²–Η, –≤ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –ö–Ψ―Ä–Β–Β –¥–Ψ–Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Β―â―ë ―²―Ä–Η ―ç–Κ―¹-–Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α.
–ù–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Φ –î–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ ―É –±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö, ―²–Α–Κ –Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö. –‰ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄ™ ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ï―¹–Μ–Η ―É –±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –¥―É–Φ―΄ –Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Β –Ϋ–Α―¹―É―â–Ϋ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –î–Ϋ―ë–Φ, –≥―Ä―è–¥―É―â–Η–Φ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α.
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Η–Ζ–Ψ―â―Ä―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α–Φ–Η ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –Η–Φ–Β―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –Γ–€–‰ (―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η) βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η ¬Ϊ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹¬Μ, (–Κ–Α–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ βÄ™ ¬Ϊ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―ÜβÄΠ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹―ä–Β–Μ –Κ―É―Ä–Η―Ü―É, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Α –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―ä–Β–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ –Κ―É―Ä–Η―Ü–Β¬Μ) –Η ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Α―è ―²–Ψ–Μ–Β―Ä–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―΄–Β –±―Ä–Α–Κ–Η, ―É―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Η –¥–Β―²–Β–Ι, –Η –Ω―Ä., –Ω―Ä., –Ω―Ä. –ù–Α –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―² βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―² –ë–Α―²―é―à–Κ–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ε―ë–Ϋ–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Β–Ι –Μ–Β―΅―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –±―Ä–Α―΅–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨βÄΠ
–ê –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―΄. –ê–Μ―¨―²―Ä―É–Η–Ζ–Φ βÄ™ –Ζ–Α–Μ–Ψ–≥ –≤―΄–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Φ―¨–Η, ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α―Ü–Η–Η, –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ï―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Β―²―¹―è: –•―é–Μ―¨ –£–Β―Ä–Ϋ βÄ™ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α ¬Ϊ–£ 80 –¥–Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –½–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Α―Ä–Α¬Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Η–Ζ―Ä–Β–Κ–Α–Β―²: ¬Ϊ–î―Ä―É–≥–Η–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨, ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Β–Φ¬Μ. –ö –£–Α―à–Η–Φ ―É―¹–Μ―É–≥–Α–Φ –Η ¬Ϊ–≠―²–Η–Κ–Α¬Μ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –ö―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Κ–Η–Ϋ–Α.
–ê ―è, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α βÄ™ –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Κ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É:
–ö―Ä–Ψ―à–Κ–Α ―¹―΄–Ϋ –Κ –Ψ―²―Ü―É –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ
–‰ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –ö―Ä–Ψ―Ö–Α,
–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ
–‰ ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ.
–û―²―Ü―΄, –≥–¥–Β –£―΄!? –ê―É-―É-―É!!!
–ê –Ψ―²–Β―Ü –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―², ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ –Β―â―ë ―¹–Ω–Η―². –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ βÄ™ ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ ―É–Ε–Β ―¹–Ω–Η―².
–ë–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Ψ–¥ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –£―¹–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η: ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ϋ―è –Ζ–Α―à–Κ–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―² (–Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η). –Γ–Α–Φ–Ψ–Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―è–≤–Μ―è–Β―à―¨―¹―è –Φ―É–Μ―¨―²–Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –±–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―² –Κ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹―É. –ù–Α―Ü–Η–Ζ–Φ, ―³–Α―à–Η–Ζ–Φ, ―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ. –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ–Η –Η –±–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η.
–û ―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ–Β –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ βÄ™ –Α―Ä–Φ–Η―è ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¹―è, –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Η―Ö –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ϋ–Β―². –‰ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Α―è –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ.
–Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–≤–Ϋ–Α, –Ω–Η―à–Β―² –Η –Ϋ–Α―à –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ –û–≤–Η–¥–Η–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ―ç–Φ–Β ¬Ϊ–¦–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ―² –Μ―é–±–≤–Η¬Μ.
¬Ϊ–ë―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –Η ―²–Α–Κ: –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Μ ―Ä–Α–Ζ–Μ―é–±–Η―²―¨ ―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Κ―É,
–Ξ–Ψ―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Α–≥―É–±―É ―ç―²–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η.
–Δ―É―²-―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Η ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Ψ –Η―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ―¨–Β –Β–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤
–Γ―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ.
–· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: "–Θ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Η –Φ–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β –Ϋ–Ψ–≥–Η!"
(–ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Α–≤–¥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄.)
–· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: "–Θ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Η –Φ–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β–Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η!
(–ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Α–≤–¥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –±―΄–Μ–Η –Η ―Ä―É–Κ–Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η.)
"–†–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Α!" (–ê –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α.)
"–Γ–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ε–Α–¥–Ϋ–Α!" (–Δ―É―²-―²–Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Η –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü!).¬Μ
–ù–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ 2000 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄―Ö, ―É–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ―Ä–Β–Ι―²–Η–Ϋ–≥ βÄ™ ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Β ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ψ–±–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Η–Β, –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –û–≤–Η–¥–Η–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É–Φ–Β―¹―²–Β–Ϋ. –‰ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –Ε–Α―Ä–≥–Ψ–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β: ¬Ϊ–•–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³―Ä–Α–Β―Ä–Α ―¹–≥―É–±–Η–Μ–Α¬Μ. –û –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, ―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β ―É –½–Ψ–Μ―è –Η –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹–Α. –£ 20-–Φ –≤–Β–Κ–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―΄ ―ç―²–Η–Φ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –¥–Α–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ –≤ –€–Η―Ä–Β. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β 17-–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω―É―²–Η, ―É–Μ―É―΅―à–Η–Μ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Μ―é–¥–Β–Ι,
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç–Ω–Ψ―Ö–Α ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Β–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α―Ö βÄ™ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Α, –Φ―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è ―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Η―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Α. –‰ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―â–Η–Φ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―è―²–Β–Μ―è. –ü―Ä–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Β –≤―¹―é –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ―É –¥–Β–Μ–Α―é―² –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –û –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä!!! –î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Α –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Κ–Α–Κ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―à–Ψ―É-―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―É –±―É–±–Μ–Η–Κ, –Α –Κ–Ψ–Φ―É –¥―΄―Ä–Κ–Α –Ψ―² –±―É–±–Μ–Η–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η –Β―¹―²―¨ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α¬Μ.
 –ù–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²―Ü―΄-–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ¬Ϊ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –¥―΄―Ä–Κ―É –Ψ―² –±―É–±–Μ–Η–Κ–Α –Μ―é–¥―è–Φ, ―¹–Α–Φ–Η–Φ, –Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –±―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ. (–ü–Ψ–Ω–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ω―É–Μ–Α –Η–Ζ –Κ/―³ ¬Ϊ–Γ–≤–Α–¥―¨–±–Α –≤ –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β¬Μ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –£–Ψ–¥―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –≤ –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Φ–Α–Ι–Ϋ–Ψ¬Μ: ¬Ϊ–· ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ψ–±–¥–Β–Μ–Η–Μ?¬Μ). –‰–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Η –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η βÄ™ –≤ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―²―΄―¹―è―΅, –≤ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –¥–Ψ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ–Α. –ß―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² –Γ–€–‰. –£–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!!! βÄ™ –±―΄–≤―à–Η–Β –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–Ϋ–Ζ―΄. –ë–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η–Ζ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö, –Ζ–Α―¹–Β–Κ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―² –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –‰–Φ –±―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Γ.–ù. ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –¥–Ψ―¹―¨–Β. –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α. –¦–Α―É―Ä–Β–Α―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Η–Φ. –€.–£. –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α –ê–ù –Γ–Γ–Γ–†. –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Γ–Γ–†. –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–€–ù), ―΅–Μ–Β–Ϋ-–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–ù), –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–ï–ù). 1979 - 1986 –≥–≥. - –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –Γ 1986 –≥–Ψ–¥–Α - –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –€–ù–Δ–ö (–€–Β–Ε–Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹) "–€–Η–Κ―Ä–Ψ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α". –£–Β–Ζ–¥–Β, –≥–¥–Β –Γ–≤―è―²–Ψ―¹–Μ–Α–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―΄. –Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Α βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü–Α; –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹–Β―¹―²―Ä–Α βÄ™ –¥–≤–Β; –≤―Ä–Α―΅ βÄ™ ―²―Ä–Η; –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α βÄ™ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β; ―¹–Α–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä βÄ™ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –Β―¹–Μ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ –Β―ë ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Β.
–ù–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²―Ü―΄-–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ¬Ϊ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –¥―΄―Ä–Κ―É –Ψ―² –±―É–±–Μ–Η–Κ–Α –Μ―é–¥―è–Φ, ―¹–Α–Φ–Η–Φ, –Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –±―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ. (–ü–Ψ–Ω–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ω―É–Μ–Α –Η–Ζ –Κ/―³ ¬Ϊ–Γ–≤–Α–¥―¨–±–Α –≤ –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β¬Μ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –£–Ψ–¥―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –≤ –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Φ–Α–Ι–Ϋ–Ψ¬Μ: ¬Ϊ–· ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ψ–±–¥–Β–Μ–Η–Μ?¬Μ). –‰–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Η –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η βÄ™ –≤ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―²―΄―¹―è―΅, –≤ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –¥–Ψ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ–Α. –ß―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² –Γ–€–‰. –£–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!!! βÄ™ –±―΄–≤―à–Η–Β –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–Ϋ–Ζ―΄. –ë–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η–Ζ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö, –Ζ–Α―¹–Β–Κ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―² –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –‰–Φ –±―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Γ.–ù. ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –¥–Ψ―¹―¨–Β. –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α. –¦–Α―É―Ä–Β–Α―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Η–Φ. –€.–£. –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α –ê–ù –Γ–Γ–Γ–†. –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Γ–Γ–†. –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–€–ù), ―΅–Μ–Β–Ϋ-–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–ù), –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–ï–ù). 1979 - 1986 –≥–≥. - –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –Γ 1986 –≥–Ψ–¥–Α - –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –€–ù–Δ–ö (–€–Β–Ε–Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹) "–€–Η–Κ―Ä–Ψ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α". –£–Β–Ζ–¥–Β, –≥–¥–Β –Γ–≤―è―²–Ψ―¹–Μ–Α–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―΄. –Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Α βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü–Α; –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹–Β―¹―²―Ä–Α βÄ™ –¥–≤–Β; –≤―Ä–Α―΅ βÄ™ ―²―Ä–Η; –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α βÄ™ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β; ―¹–Α–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä βÄ™ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –Β―¹–Μ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ –Β―ë ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Β.
–†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²–Α―Ö: –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –≤ 4-5 ―Ä–Α–Ζ, –£ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η βÄ™ 17-20, –≤ –Γ–®–ê βÄ™ 30-50. –û –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η ―¹ –Β―ë ¬Ϊ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―΅―É–¥–Ψ–Φ¬Μ –Β―â―ë –±―É–¥–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ–Η ―ç–Κ―¹–Κ–Μ―é–Ζ–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η. –£―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Η –Κ–Α–Κ, ―è –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –Β―ë –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö, –Ψ―² –Φ―ç―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η–Φ–Β―é –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η.
–£―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –€–Η―Ä–Β –Η –Ϋ–Β―¹―ë―²―¹―è –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è―â–Η–Κ–Α –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –†–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α―¹–Β–Μ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É βÄ™ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥ ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―Ä―É―Ö–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –≤―΄―²–Β–Κ–Α―é―â–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η.
–û ―΅―ë–Φ ―è –£–Α–Φ, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É (―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ). –≠―²–Α –‰–¥–Β―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ω―Ä–Η –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α, ―².–Β. –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―² ―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ.
–ù–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥: –Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Ι ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Η –≤ –€–Η―Ä–Β –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Β –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –‰–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –≤―¹–Β–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –Η–Ζ –Β―ë –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Α –Η –±–Β―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―â–Η–Ϋ―΄ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Η ―Ö–Α–Ψ―¹–Α, –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö–Η –Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α.
–ê ―²–Ψ–Μ―΅–Κ–Ψ–Φ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–ΑβÄΠ ―¹–Β–¥–Ψ–≤–Μ–Α―¹―΄–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ―é ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä ¬Ϊ―²–Α–Κ –Φ–Η–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω–Η–Ϋ–Α–Β―²¬Μ –Ϋ–Α―à―É –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤.
–ë–Β―Ä―É –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹ ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –±–Β―¹–Ω–Α―Ä–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α TV, –Κ–Α–Κ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö.
–‰ ―è –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β ―²–Β–Κ―¹―²–Α –±―É–¥―É –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―²―¨ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―²–Α, –Ω―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Α –Δ–Ψ–Φ–Α―¹–Α –î–Ε–Ψ–Ζ–Β―³–Α –î–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ϋ–≥–Α: "–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅―¨―²–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―É 10% –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η, –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η 20% –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Η 50% –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Ω―Ä–Η 100% –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Β―² –≤―¹–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η 300% –Ϋ–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―Ä–Η―¹–Κ–Ϋ―É–Μ, –±―΄ –Ω–Ψ–Ι―²–Η, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ –≤–Η―¹–Β–Μ–Η―Ü―΄¬Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±–Μ–Α―΅–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ-―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄. (–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―¹–Μ–Η–≤, ―è –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Β–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―è –Κ –Ϋ–Β–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨).
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Η –î–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ―΄–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ –Η ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―Ä–Α–¥―É―à–Η–Β –Ω―Ä–Η ―É–≥–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η, ―â–Β–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –£–Α―¹, –£―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ –Η–Μ–Η –≤ –Κ–Α―³–Β –Ϋ–Α ―΅–Α―à–Β―΅–Κ―É –Κ–Ψ―³–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –£–Α―¹ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²―è―². –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Α ―¹–Β–±―è. –‰–Ζ ―²–Β–Μ–Β―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α –Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β βÄ™ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –£–Α―à–Α ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –½–Α–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –ö―É–¥–Α –¥–Β–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨. –ö –Φ–Β―¹―²―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―É–¥–Β―² –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –ΨβÄô–™–Β–Ϋ―Ä–Η: ¬Ϊ–ë–û–¦–‰–£–ê–† –Ϋ–Β –£–Ϊ–î–ï–†–•–‰–Δ –î–£–û–‰–Ξ!¬Μ
–ü―Ä–Β–±―΄–≤–Α―è –≤ –Γ–®–ê, –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α 46 –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Η–Φ. –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –¥–Η–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―É –≤ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Β, –≤ –Β―ë ―à―²–Α–±-–Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β. –ù–Α―¹ ―²–Α–Φ –¥–Α–Ε–Β ―΅–Α–Β–Φ –Ϋ–Β ―É–≥–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η. –€―΄ –Ε–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η ―¹ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―¹ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Γ―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è¬Μ. –Δ–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Φ―ç―Ä–Η–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η―Ö –‰–Φ―è –û–¥–Β―¹―¹–Α. (–û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β –Κ –ù–Η–Α–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω–Α–¥―É).
¬Ϊ–î–≤–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―΄¬Μ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –≤ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –ê–≤–Η–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Η –£–Α―Ä―à–Α–≤–Α βÄ™ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ –≤–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α. –û–±―Ä–Α―â–Α―é –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Β, –Κ–Α–Κ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―² –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è, –Κ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Φ–Κ–Η –Η –¥–Ψ–Φ–Ψ―³–Ψ–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥–Α―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤. –¦―é–¥–Η –Ψ–±–Ψ―¹–Α–±–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è. –½–Α―΅–Α―¹―²―É―é, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥―É –Η –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―é―²―¹―è. –£–Β–¥―¨ –±―΄–Μ–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ!!! –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Α―Ö –Ω–Ψ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–±―â–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ. –ê ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –Π–Η–Ϋ–Η–Ζ–Φ –Η –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –‰―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –Ε―ë―¹―²–Κ–Η–Φ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η―² –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ (–≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Α–Ε–Β –ù–Α―É–Κ–Β –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α–Β―² –Α–Μ―¨―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Η–≤―΄. –û ―΅―ë–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² ¬Ϊ–€–Α―Ä―à –≤ –Ζ–Α―â–Η―²―É –Ϋ–Α―É–Κ–Η¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅–Β–Φ 600 –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –Φ–Η―Ä–Α ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Η –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤.
–£ –Ω―Ä–Β–¥–≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ζ–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ι, ―Ä–≤―É―â–Η―Ö―¹―è –Κ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –¥–Μ―è ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–±―΄―²–Κ–Ψ–≤¬Μ. –£―Ä–Α–Ϋ―¨―ë –Η –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ϋ–Α–Ε–Η–≤―΄ βÄ™ –Η―Ö –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Η.
–£ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―É–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―Ö–Ψ―΅–Β–Φ –¥–Ψ –Ε–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–Ε–Η–≤―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤ –ê ―ç―²–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –ù–Α―Ü–Η–Η!!! –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è βÄ™ –Ω―Ä–Η ―¹–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―É–¥–Ψ–Β–≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α ―Ä–Α―¹―²―ë―² –≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Φ–Β―²–Α–Ϋ―΄.
–Δ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ ―Ö–Η–Φ–Η–Η –≤ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Β–Φ–Μ–Η!!!
–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö–Ψ–Μ―΅–Α–Κ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Γ–Η–±–Η―Ä–Η, –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–± –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α―Ö: ¬Ϊ–Δ–Ψ―Ä–≥–Α―à–Η!¬Μ
 –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, ―²―Ä―ë―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –≤–Η–Ζ–Η―²–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Β―à―ë–≤―É―é ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–¥–Κ―É, ―΅―²–Ψ, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤–Α–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É. –™–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α –Η―Ö –≤ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹―΄ –Η –Ψ―²–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―ç―²–Η –Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ―΄ –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è ―É–Ε–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―ç–Κ―¹―Ü–Β―¹―¹–Ψ–≤. –ù–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ 12 ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Φ–Β―²–Α–Φ–Ψ―Ä―³–Ψ–Ζ―΄ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–· –Μ–Η―à–Η–Μ –Η―Ö –Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄¬Μ - –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―²–Ψ―².
–û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Β. –ü―Ä–Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Β–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―ÉβÄΠ, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β ―¹–Ω―è―â–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ ―Ä–Ψ–±―΄ –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Η. –ù–Α –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―à–Ψ–Κ–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―² –¥–Μ―è ―É―Ö–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α: ¬Ϊ–Θ–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄¬Μ. –ß―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –¥–Η–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η―è. –‰ –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ, ―¹ –Ϋ–Β―é –Ϋ–Α–¥–Ψ –Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è –Η ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è βÄ™ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–≤.
–î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, ―²―Ä―ë―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –≤–Η–Ζ–Η―²–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Β―à―ë–≤―É―é ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–¥–Κ―É, ―΅―²–Ψ, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤–Α–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É. –™–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α –Η―Ö –≤ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹―΄ –Η –Ψ―²–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―ç―²–Η –Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ―΄ –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è ―É–Ε–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―ç–Κ―¹―Ü–Β―¹―¹–Ψ–≤. –ù–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ 12 ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Φ–Β―²–Α–Φ–Ψ―Ä―³–Ψ–Ζ―΄ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–· –Μ–Η―à–Η–Μ –Η―Ö –Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄¬Μ - –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―²–Ψ―².
–û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Β. –ü―Ä–Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Β–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―ÉβÄΠ, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β ―¹–Ω―è―â–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ ―Ä–Ψ–±―΄ –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Η. –ù–Α –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―à–Ψ–Κ–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―² –¥–Μ―è ―É―Ö–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α: ¬Ϊ–Θ–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄¬Μ. –ß―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –¥–Η–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η―è. –‰ –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ, ―¹ –Ϋ–Β―é –Ϋ–Α–¥–Ψ –Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è –Η ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è βÄ™ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–≤.
–Γ–¥–Β–Μ–Α―é –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–ΦβÄΠ –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Α―é―²―¹―è –Φ–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β: ¬Ϊ–ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –£―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β―²–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –£―΄ –¥–Α―ë―²–Β –Μ―é–¥―è–Φ –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β. –ö–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –≤–Β―΅–Ϋ―΄ –Η –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―²–Η–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―²–Η―Ä–Α–Ε–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä―É –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ―É―é¬Μ.
–€–Ψ―è ―¹–≤–Β―Ä―Ö–Ζ–Α–¥–Α―΅–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –‰–Φ―ë–Ϋ –Η –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι –±―΄–Μ–Ψ, ―¹ –Κ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―²–Η-–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η. –ù–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―è –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ–± –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β, ―¹–Α–Φ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹.
–‰―²–Α–Κ, –Ψ–± –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β. –ü–Ψ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²―É. ―².–Β. –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ω–Μ–Α–≤―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–¦ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η–Β –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β (–£–û–¦–Γ–û–ö). –ù–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α–Φ–Η, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β 8 –Μ–Β―² –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η (―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι) βÄ™ 3 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η 5 –Μ–Β―² ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –±―΄–Μ–Η –Η –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç–≥–Ψ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è –Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―² –Ω―Ä–Η ―¹–Β–±–Β ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―².–Β. ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥–Ψ–Κ¬Μ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α―è –Η–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―¹ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―É―΅―ë–±―É ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –ù.–‰. –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―É. –ù–Α –Φ–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–û–Ϋ, ―΅―²–Ψ –£–Α–Φ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ?¬Μ. –· –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β ―¹―É–Φ–Ϋ―è―à–Β―¹―è: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―ë―² –≤―Ä–Β–Φ―è, –£–Α―¹ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨¬Μ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η.
–‰ ―è, –Κ–Α–Κ –≤ –≤–Ψ–¥―É –≥–Μ―è–¥–Β–Μ. –û–Μ–Β–≥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―΅―ë–±―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Η –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰ ―¹―²–Α–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ βÄ™ –Γ–Α–Φ―΄–Φ –€–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
–ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –û–Μ–Β–≥ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–ΦβÄΠ –≠―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄, ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ü–Η–Κ―É–Μ―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α.
–‰ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―à―²―Ä–Η―Ö, –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.
–Γ―²―Ä–Α―²–Β–≥ ¬Ϊ–ö-171¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ë―Ä―΄―΅–Κ–Ψ–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α –≤ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² ―¹ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –±–Α–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–≥–Ψ –Η –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―à―²–Α–±–Α 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―Ä―΄, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –£–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄ ―¹ –Ω―Ä–Η–Μ–Β–≥–Α―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β–Φ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –ù–® –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ2/3 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥¬Μ, βÄ™ –Η ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α―Ö―²–Β ¬Ϊ–≤―¹―ë –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ¬Μ. –ê ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η–≤, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–¥–Α. –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Α―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ζ–Α ―²―Ä–Η–¥–Β–≤―è―²―¨ –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –ù–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α.
–ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Η, ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –¥–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ. –Ξ–Ψ―²―¨ –Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –£–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ü―Ä–Η―¹―è–≥–Β –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―².
–‰ –Β―â―ë, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ.
–ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α ―¹ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É, –≤ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η. –‰–¥―ë―² –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β―é –Κ―Ä―΄―à–Κ―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é ―²–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η―è–Φ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Κ–Β¬Μ, –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ–Ψ –≤ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β, –≤―΄―¹―É–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É: –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥―΄―Ä―΅–Α―²―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ε―É―Ö –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Β. ¬Ϊ–ß–ü!!!¬Μ. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α–Φ –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α. –Δ―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ ―¹―²–Ψ–Η–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ –™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 1. –£―¹―ë –¥―É–Φ–Α―é―²?! –ù–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ βÄ™ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –ü–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ―É –ê–Κ―²–Η–≤―É. –€–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –≠―²–Ψ―² –Λ–Ψ―Ä―É–Φ. –· ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ: ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α, –Ω–Ψ–Φ–Η–Μ―É–Ι―²–Β, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Η―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹ ―²–Ψ―Ä―΅–Α―â–Β–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ι¬Μ. –ê –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–û―¹–Μ―É―à–Α–Β―à―¨―¹―è βÄ™ –ü–Α―Ä―²–Η―è ―²–Β–±―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β ―²–Β–±―è –Η ―É–±–Β―Ä–Β―²¬Μ. –‰ ―è –Η–Ζ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι: –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ,- ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η –≤ –£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β, ―¹–Ψ―à―ë–Μ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α.
 –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, ―è ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Η–Ε―ÉβÄΠ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ (–±―É–¥―É―â–Η–Ι –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ) –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≤–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –±―É–Μ―¨–¥–Ψ–Ζ–Β―Ä–Β ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Α–Μ ―¹–Ϋ–Β–≥. –· –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –¥―ë―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―ɬΜ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Β―ë ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Η―Ä―¹–Ψ–≤ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α –≠.–ü. –ö–Η–Φ–Α. –ê ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –î–Ε–≤–ΒΧ¹―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Γ―²–Β―³–Α–Ϋ―É –ö–Α–Ζ–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅―ë–Ϋ–Ψ–Φ―É- –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β.
–‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄ™ –Κ–Α–Κ―É―é –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨.
–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, ―è ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Η–Ε―ÉβÄΠ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ (–±―É–¥―É―â–Η–Ι –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ) –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≤–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –±―É–Μ―¨–¥–Ψ–Ζ–Β―Ä–Β ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Α–Μ ―¹–Ϋ–Β–≥. –· –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –¥―ë―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―ɬΜ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Β―ë ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Η―Ä―¹–Ψ–≤ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α –≠.–ü. –ö–Η–Φ–Α. –ê ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –î–Ε–≤–ΒΧ¹―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Γ―²–Β―³–Α–Ϋ―É –ö–Α–Ζ–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅―ë–Ϋ–Ψ–Φ―É- –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β.
–‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄ™ –Κ–Α–Κ―É―é –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨.
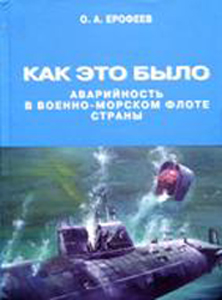
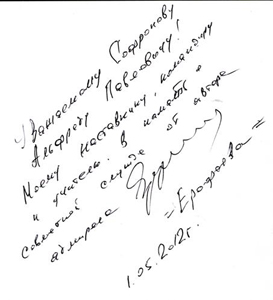
–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ –≤―¹–Β–Ι ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β–Ζ―΄―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―è―Ä–Κ–Η–Ι –Μ―É―΅–Η–Κ, –Ψ–±―Ä–Α―â―É―¹―¨ –Β―â―ë –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Φ―É –£ 1905 –≥–Ψ–¥―É –ê–Μ―¨–±–Β―Ä―² –≠–Ι–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ, –Α –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Δ–Β–Ψ―Ä–Η―é –û―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Γ–Δ–û) ¬Ϊ–≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η βÄ™ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²–Β–Ψ―Ä–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ω―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ–Β―Ä―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α–Φ–Η –Ψ―²―¹―΅–Β―²–Α βÄ™ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–≤–Η–Ε―É―²―¹―è ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É.
–ù–Β –±–Β–Ζ―΄–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―²–Β–Κ―¹―² –Η–Ζ ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥, –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹–Η–≤–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Β –≤ –Ϋ―ë–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ω―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ βÄ™ –Η―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ βÄ™ ―²–Β–Ψ―Ä–Η―è –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–ΒβÄΠ –Η ―².–¥.
–£–Ψ―² –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –¥―É―à–Β –Φ–Ϋ–Β –≥―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –™–Β―Ä–Ψ–Ι ―¹ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬ΪβÄΠ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨, ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Η―à―¨, ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Α–Ι –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Α –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, ―è –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―é –Η –£–Α–Φ ―³–Β–Μ―¨–¥―³–Β–±–Β–Μ―è –≤ –£–Ψ–Μ―¨―²–Β―Ä―΄ –¥–Α–Φ. –û–Ϋ –≤ ―²―Ä–Η ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Η –£–Α―¹ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―², –Α –Ω–Η–Κ–Ϋ–Η―²–Β, ―²–Α–Κ –Φ–Η–≥–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―².¬Μ –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ε–Β, ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―², –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Μ–Η–±–Ψ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β–Β―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ βÄ™ –£―¹―ë –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―ë―²―¹―è –≤ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η!!!
–û―²―¹―é–¥–Α, –≤–Β–¥―¨ –±―΄–Μ–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ !!! –ö–Α–Κ –Ω–Β–Μ–Η ―é–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η: ¬Ϊ–Γ–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η―² ―è―¹–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è!¬Μ. –û –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Κ―É–±–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η!!! –ù–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –≤–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Α –≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β.
–€–Η―Ö–Α–Η–Μ –•–≤–Α–Ϋ–Β―Ü–Κ–Η–Ι, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α―Ä–Κ–Α–Ζ–Φ–Α, –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ?¬Μ βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ!¬Μ.
–Γ–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Α–Φ–Η, –Φ–Η–Ϋ―É―¹–Α–Φ–Η, ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Α–Φ–Η¬Μ –Η –Ω―Ä., –Ε–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Β βÄ™ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η¬Μ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ψ ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―²―É–Ω–Η–≤ –Ψ―΅–Η, –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α―é―² ¬Ϊ–ë–Α–±–Η–Ι ―è―ĬΜ. –î–Α–Ε–Β –û―¹―²–Α–Ω –‰–±―Ä–Α–≥–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Ϋ–¥–Β―Ä –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±―΄–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Η –≤ –ü–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ε―¨–Β –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ϋ―ë–Φ. –ü―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Α¬Μ ―²–Α–Κ –Η ―Ä–Α―²–Ψ–±–Ψ―Ä―Ü–Α–Φ –Ψ –≥–Β–Ϋ–Ψ―Ü–Η–¥–Β –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―² ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι βÄ™ –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Α–Ω―Ä―è―΅―¨―¹―è –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–ΒβÄΠ –ü–Β―Ä–≤–Α―è –€–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –û―²―²–Ψ –ë–Η―¹–Φ–Α―Ä–Κ: ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤―΄–Η–≥―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ, βÄ™ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α –≤–Ψ―é―é―â–Η―Ö βÄ™ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Β, –Ψ–¥–Β―²―΄–Β –≤ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Β ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Ω–Α―à―É―² –Η –Ϋ–Β ―¹–Β―é―². –½–Α―²–Β–Φ, –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α –Ϋ–Α―¹―É―â–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£―¹―è –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η―é, –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ―Ä―É–Η–Ζ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ―² –≤–Μ–Α―¹―²–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä―É. –ê ―²–Ψ–≥–¥–ΑβÄΠ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―΄ –Ϋ–Α –°–≥–Β, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ ―¹ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β―É―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι. –î–Α, –Η –±–Ψ―Ä―¨–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹–Β–Μ–Β ―¹ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, –¥―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ. –ë―΄–Μ–Η –Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥ –Ψ―²―Ä―è–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ö–Α–Κ –±―΄ ―²–Α–Φ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ, –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –½–Β–Φ–Μ―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α –Μ―é–¥―è–Φ –≤―΄–Ε–Η–≤–Α―²―¨. (–ö―¹―²–Α―²–Η, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –≤―΄–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ―΄–Ϋ–Β, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ, –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Η―Ö–Ψ–¥). –ê –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―² –Ϋ–Α―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤―΄–Φ–Β―Ä–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α―è, –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–ö –Φ–Β―¹―²―É –±―É–¥–Β―² –½–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≥–Ψ―Ä–±–Α―΅―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―³–Η―Ü–Η―² –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α ―²―Ä–Α―¹―¹–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―ë–Μ–Α (―ç―²–Ψ ―è –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ ―¹–≤–Ψ―é ¬Ϊ―à–Β―¹―²―ë―Ä–Κ―É¬Μ –Η–Ζ –Δ–Ψ–Μ―¨―è―²―²–Η –≤ –û–¥–Β―¹―¹―É) –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―΅–Η–Ϋ–Α―Ö ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―¹–Β–Μ―è–Ϋ–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β ―Ö–Η―²―Ä―΄–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –≤–Α―Ä–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ–Β–Φ, ―¹―É―à–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –≥―Ä–Η–±–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Ϋ–Α–Φ –Η –Ω―Ä., –Ω―Ä. –î–Α―Ä―΄ –½–Β–Φ–Μ–Η –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Β―à–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ–Α.
–ù–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Α ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ―² ―Ö–Α–Ψ―¹–Α –Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι. –ê ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è: –ö–Α–Κ ―²–Ψ―² –≤–Ψ―Ä –Ϋ–Α –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ–ü―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ–Β¬Μ, ―É–±–Β–≥–Α―è, –Κ―Ä–Η―΅–Η―²: ¬Ϊ–î–Β―Ä–Ε–Η –≤–Ψ―Ä–Α!¬Μ
–ö –Φ–Β―¹―²―É –±―΄–Μ–Η –±―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Α βÄ™ ―É―΅―ë–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Α, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Α, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ βÄ™ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α. –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ¬Ϊ–¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι¬Μ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–½–Η―è―é―â–Η–Β –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ―΄¬Μ, –·―Ä―΄–Ι –Α–Ϋ―²–Η―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Η―¹―² –Η –Α–Ϋ―²–Η―¹–Ψ–≤–Β―²―΅–Η–Κ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Β –Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄, –±―΄–Μ –Μ–Η―à―ë–Ϋ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥ –Η –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ –Η―Ö –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄βÄΠ –ï―â―ë –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ω–Ψ–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―²–Ψ–≤. –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ. –ù–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ, –Μ–Β―²―΅–Η–Κ –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ –€–™–Θ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ –Κ―É–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–¥―É–Φ―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι¬Μ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Η –±―É–¥―É―â–Η–Ι –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –ê–≤–Β–Ϋ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Θ―ë–Φ–Ψ–≤. –£ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Α –≤ –î–Ψ–Φ–Β –Θ―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –ê.–ê.–½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ. –î–Α, –Η ―è, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, ―ç―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Α–Μ.
–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ βÄ™ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ, ―à―²―Ä–Η―Ö–Α–Φ–Η ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ –‰–Φ―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Α. –ù–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ω–Μ―ë―¹–Κ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β ―è―â–Η–Κ–Α: ¬Ϊ–£―²–Ψ―Ä–Α―è –€–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –£–Ψ–Ι–Ϋ–ΑβÄΠ, –£―²–Ψ―Ä–Α―è –€–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –£–Ψ–Ι–Ϋ–ΑβÄΠ¬Μ (―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ¬Ϊ–£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ) –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―É–Ϋ–Α–≤–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Ψ–Ι. βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β.
–½–Α 20 –Μ–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―è –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –ê.–ê.–½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤ ―¹―²–Α–Μ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―²–Ψ–≤. –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α, –Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η.
–£–Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è
¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è, ―è –±―΄ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥. –ü―É―¹―²―¨ ―è –±―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Α–¥―è―². –€―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±―è –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Η –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Φ―΄ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Φ―É―΅–Α―è –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è, –Ϋ–Α–Φ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –¦―é–¥–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η, –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É, ―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –¥–Β―²–Β–Ι. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ¬Μ.
¬Ϊ–£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–ö–Α–Κ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Φ–Ψ―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²–Α –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Β?¬Μ. ¬Ϊ–≠–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―² 500 –¥–Ψ–Μ–Μ. –Γ–®–ê¬Μ, - –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è. –≠―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―é―Ä–Κ–Η–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―é–≥–Α ―²―É―² –Ε–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –€–Ψ―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–Η–Μ―É ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―¹―³–Β―Ä ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η (–±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ–Α, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ―΅―²–Η –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Α―è –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α). –ù–Α 500 –¥–Ψ–Μ–Μ. –≤ –Γ–Γ–Γ–† ―è –Ε–Η–Μ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ, –Ϋ–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²¬Μ,
–û―²―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―É –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –†–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–Φ. –ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ 22 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―²―¹―è –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –€–Α―²–Β―Ä–Η - –½–Β–Φ–Μ–Η. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―ç–≥–Η–¥–Ψ–Ι –û–û–ù. –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α 63-–Ι ―¹–Β―¹―¹–Η–Η –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê―¹―¹–Α–Φ–±–Μ–Β–Η –û–û–ù –≤ 2009 –≥–Ψ–¥―É (―Ä–Β–Ζ–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è ⳕ A/RES/63/278, –Β–Β ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 50 –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤-―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –û–û–ù) –Η –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ 2010 –≥–Ψ–¥–Α. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β ―ç―²–Ψ―² –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –†–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²―΄, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –ê ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―¹ –±–Β–Ζ―É–¥–Β―Ä–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Β–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Η. –£–Β–¥―¨, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―΄―²–≤–Ψ―Ä―è―é―² –ê–Ϋ―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η ―¹ –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η ―¹–Α–Φ–Η–Φ –½–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ –®–Α―Ä–Ψ–Φ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―²–Ψ –Κ –Ϋ–Η–Φ, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―¹ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α ¬ΪβÄΠ –Η–Ζ–Φ¬Μ βÄ™ –Η–¥–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ, –¥–Β–±–Η–Μ–Η–Ζ–Φ
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Η ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η―è, ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –Η –Β–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ, ―Ä–Β–Ι–¥–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄, –Κ―Ä–Η–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è βÄ™ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Η –î–Ε–Ψ–Ϋ –†–Ψ–Κ―³–Β–Μ–Μ–Β―Ä –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η: ¬Ϊ–· –Φ–Ψ–≥―É –Ψ―²―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –Δ.–Β. –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ –≤–Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α, –≤–Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ê –≤–Β–¥―¨ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―é―Ä–Κ–Η―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―΅–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―΅–Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ.
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―à–Η―Ä–Ψ―΅–Α–Ι―à–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²―΄―Ö –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ―ÉβÄΠ. –· –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ω―Ä–Η–Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²―΄―Ö βÄ™ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η ―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Α –Ϋ–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–±–Α―Ä―΄–≥–Η¬Μ.
–ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É. –£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β, –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ ―Ä―è–¥ –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö. –ù–Α–Η–Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤–Ζ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―É –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Α–Φ –±―΄–Μ–Η ―΅–Η―¹―²―΄, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü―΄. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Ψ–Φ ¬Ϊ–½–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―²¬Μ –≤–Ζ―è–Μ–Ψ –≤ –Κ―Ä–Β–¥–Η―² 85 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –±―é–¥–Ε–Β―²–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö 30-–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ―É –°–±–Η–Μ–Β―é –≤―¹―ë ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ. –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ψ. –ê –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –™–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Η –≤―΄–≤–Β–Ζ –Ϋ–Α –Ψ―³―à–Ψ―Ä―΄ 350 –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤.
–ù–Α–Φ –≤ –ù–Α―à–Β–Ι –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤–Β–Ζ―ë―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –™–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Η. –Γ―²–Ψ–Η―² –Μ–Η―à―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Η―Ö –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―΅–Α―¹―΄ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è βÄ™ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―ç–Ω–Η–≥―Ä–Α―³―΄, –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö: ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―³–Β―Ä–Β–Ϋ–¥―É–Φ–Ψ–≤¬Μ, ―².–Β. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Μ–Α―¹―²–Η–Η. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―¹ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―èβÄΠ, –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Ψ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –±―΄–≤―à–Η–Ι –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –°―¹―²–Η―Ü–Η–Η –ê–Μ―ë–Ϋ–Α –¦―É–Κ–Α―à. –Δ–Α–Κ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι (―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é) –™–Α―Ä–Α–Ϋ―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹-―Ä–Β–Ω–Μ–Η–Κ―É –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Α: ¬Ϊ–£―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄βÄΠ¬Μ. –û―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–· –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ¬Μ. –î–Α, ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Γ–≤―è―²–Ψ–Β. –ù–Ψ ―²―΄ –Ε–Β –Η –™–Μ–Α–≤–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α!!!
–ö–Ψ―Ä―Ä―É–Ω―Ü–Η―è βÄ™ –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤―¹–Β: –Η –Ψ–±–Β–Ζ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Η ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η.
–ê, –Ω–Ψ–Κ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Β–Β: ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ―Ä―Ä―É–Ω―Ü–Η―è.
–ö–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―Ü–Η―è (–±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹) –≤ –ü–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β –Η –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ!!!
–‰ ―É–Ε –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―Ä―Ä―É–Ω―Ü–Η–Η, ―ç―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Β―Ä―à–Η–Ι –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ –î–Ε–Ψ–Ϋ–Α –†–Ψ–Κ―³–Β–Μ–Μ–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨.
–ß―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ ―¹ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι –Η –Β―ë –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ψ–Ι, –Ζ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ζ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Ψ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ω–Μ―è–Ε–Β–Ι –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ ―¹―Ä–Β–Ζ–Α –≤–Ψ–¥―΄. –û–¥–Β―¹―¹―É, –Κ–Α–Κ –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ù–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä―΄, –Α–Ω―²–Β–Κ–Η. –‰―Ö –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² –Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Β–Ι, ―΅–Β–Φ ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ê –≤–Β–¥―¨ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–ΑβÄΠ
–™–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β ―Ä―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―¹―ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Α―²―΄, ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η-–Κ―É―Ö–Ϋ–Η –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –£ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α―Ä–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ψ–±―â–Β–Ω–Η―²–Α¬Μ.


–½―²–Η ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Α–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α―²―΄ –¥–Μ―è ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –Ω–Η―²–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Α. –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η-–Κ―É―Ö–Ϋ–Η –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Α–Ε–Β–Ι, –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η –Β–¥―΄ –≤ –Ζ–Α–Μ–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Η –≤ –Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―è―Ö. –ü―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ζ–Α–Μ―΄ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Β―¹―²–≤. –Γ―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η-–Κ―É―Ö–Ϋ–Η –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Γ–Γ–Γ–† –≤ ―¹―²–Η–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Φ–Α –Η ―ç―²–Ψ―² –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Η–Μ―¨, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ 20-―Ö-30-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι, –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Β–Ι –Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η.
–£ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η 250 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤. –‰―Ö –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―²―Ä―É–¥―É –Ϋ–Α 1 –Η―é–Μ―è 2017 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ 50 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ 706 ―²―΄―¹―è―΅ –≥―Ä–Η–≤–Β–Ϋ. –‰ –£―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤!!!
–ê –±―΄–Μ–Ψ –Ε–Β!!! –ö–Ψ–≥–¥–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ –±―΄–Μ–Α ―¹–±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α. –ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Η―â–Β–≤–Α―è –Η –Ψ–±―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –¦–Β–≥–Ω―Ä–Ψ–Φ. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –ü–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ, ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –ü–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η βÄ™ ―²–Α–Κ–Α―è ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α –≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―É―é –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―é–¥–Ε–Β―²–Α. –ê ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Ζ–Α ―²―Ä–Η –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –Μ–Β―² ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ: –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α. –û–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –≤―΄–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Μ–Ψ–Φ. 356 ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ß–€–ü (–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Α―è –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Η–¥–Β―Ä–Α―Ö) –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Β –ö―Ä–Α–≤―΅―É–Κ–Β, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É –≤ –ö–ü–Γ–Γ –¥–Ψ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –Ω–Ψ –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η. –ê –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―É―à–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―΅―É–Ε–Η–Β ―³–Μ–Α–≥–Η.
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ―² –≥–Β–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –Η –Ψ―² –Ϋ–Α―²―É―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α. –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –û–Κ–Β–Α–Ϋ ―²–Α–Κ –Ζ–Α―Ö–Μ–Α–Φ–Μ―ë–Ϋ –Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―² ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―ç―²–Η–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Α–Μ―¨–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö.
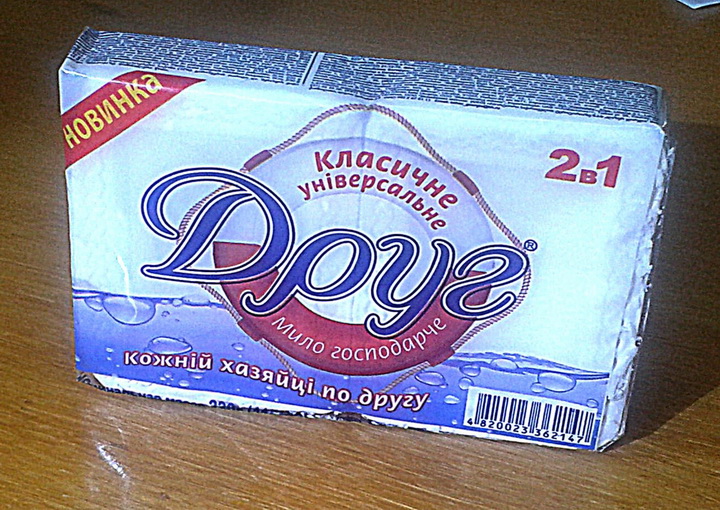 –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–· –± –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ.
–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η ―ç―²–Α, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à―É –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―² –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α, –Ψ―²―â–Κ―Ä―è–±–Ψ―²―¨ –≥―Ä―è–Ζ―¨ –Η –Ψ―²–Φ―΄―²―¨ –Β―ë ―¹ –Φ―΄–Μ–Ψ–Φ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Φ―΄―¹–Μ―é, ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α.
–€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–· –± –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ.
–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η ―ç―²–Α, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à―É –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―² –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α, –Ψ―²―â–Κ―Ä―è–±–Ψ―²―¨ –≥―Ä―è–Ζ―¨ –Η –Ψ―²–Φ―΄―²―¨ –Β―ë ―¹ –Φ―΄–Μ–Ψ–Φ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Φ―΄―¹–Μ―é, ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α.
–ù–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α–Μ–Β–Β, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε―ë–Ϋ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Ι βÄ™ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ê.–î.–Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄, ―É–≤–Μ―ë–Κ―à–Η―¹―¨ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Μ–Β―¹–Ϋ―É―²―¨ –Η ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Α. –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ βÄ™ –Δ―Ä–Η–Ε–¥―΄ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Φ–±―΄ –≤ –Γ–Γ–Γ–† (–Α–≤–≥―É―¹―² 1953).
–Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤―É, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ: ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥, ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η –¥–Β–Φ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, –¥–Β–≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, ―Ä–Α―¹–Η–Ζ–Φ, –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ, –¥–Η–Κ―²–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β, ―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Β–Ε–Η–Φ―΄.
–Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ –≤–Η–¥–Β–Μ –Α–Μ―¨―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Η–≤―É –≥–Η–±–Β–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α βÄ™ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Η –¥–Β–Φ–Η–Μ–Η―²–Α―Ä–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹, –≤–Β–¥―É―â–Η–Β –Κ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –¥–≤―É―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ, ―².–Β. –Μ―É―΅―à–Β–Β –¥–≤―É―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ βÄ™ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä–≥–Β–Ϋ―Ü–Η―è
–ß―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Β –™–Β–≥–Β–Μ―è (1770-1831 –≥–≥.), –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ―²―Ü–Ψ–≤-–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η. –ü–Ψ –™–Β–≥–Β–Μ―é ―²―Ä–Η ―¹―²–Α–¥–Η–Η, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É―é―â–Η–Β –¥–Η–Α–Μ–Β–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β: ―²–Β–Ζ–Η―¹ βÄ™ –Α–Ϋ―²–Η―²–Β–Ζ–Η―¹ βÄ™ ―¹–Η–Ϋ―²–Β–Ζ. –£―΄―¹―à–Α―è ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―é―â–Α―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Β–Ι.
–î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –€–Η―Ä –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―¹–Η―è –Η –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η.
–≠―²―É –≤―΄―¹―à―É―é ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Γ–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α–≤–Η–Η –Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è. –€―΄ ―¹ –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –±―΄–Μ–Η –≤ –®–≤–Β―Ü–Η–Η –Η –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―ç―²–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ –®–≤–Β―Ü–Η–Η.
–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä–≥–Β–Ϋ―Ü–Η―è. –½–Α ―΅―²–Ψ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ, –Ω–Ψ–¥–≤―ë―Ä–≥–Ϋ―É―² –Ψ―¹―²―Ä–Α–Κ–Η–Ζ–Φ―É. –ß–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ –ö–Ψ―² –¦–Β–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨–¥ ―¹ –Ψ–±–Α―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ö–Α–Μ―è–≥–Η–Ϋ–Α: ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α, –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ε–Η―²―¨ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ!¬Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Β. –‰, –Β―¹–Μ–Η ―É―΅–Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α―â―É―Ä –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –ö–Ψ―² βÄ™ –ö–Ψ―² ―É―΅―ë–Ϋ―΄–Ι, ―²–Ψ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Η–Η –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –‰–Φ―ë–Ϋ –Φ–Ψ–Η –Γ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄. –‰ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―²―è–Ϋ―É―² –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â―É―é ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―², –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―É–Φ–±―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Μ―ë―¹―²–Ψ–Φ: ―²–Β–Φ–Α-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Α―è. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨, –Ω–Μ–Ψ–¥ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –ö–Ψ–Ζ―¨–Φ–Α –ü―Ä―É―²–Κ–Ψ–≤: ¬Ϊ–ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ–±―ä―è―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Β¬Μ. –ù–Ψ, ―²―΄, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ ―¹–Α–Φ –≤―¹―ë ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è.
–ê–Ϋ–Ψ–Ϋ―¹ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι ―²–Β–Φ―΄ –¥–Μ―è –≠―¹―¹–Β
¬Ϊ–£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1991 –≥. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Γ–Γ–Γ–†, –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―²―Ä―É–¥–Α –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Η–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―É–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―²–Α–Φ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Β―Ä –Ξ–Β―Ä–Ψ―¹–Η –Δ–Β―Ä–Α–≤–Α–Φ–Α –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –Ψ "―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―΅―É–¥–Β": "–£―΄ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β –Ψ–± –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –û –≤–Α―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ―Ä–Ψ–Μ–Η –≤ –Φ–Η―Ä–Β. –£ 1939–≥. –≤―΄, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β, –±―΄–Μ–Η ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Α –Φ―΄, ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄, –¥―É―Ä–Α–Κ–Α–Φ–Η. –£ 1949–≥. –≤―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Β―â–Β ―É–Φ–Ϋ–Β–Β, –Α –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α –¥―É―Ä–Α–Κ–Α–Φ–Η. –ê –≤ 1955 –≥–Ψ–¥―É –Φ―΄ –Ω–Ψ―É–Φ–Ϋ–Β–Μ–Η, –Α –≤―΄ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –£―¹―è –Ϋ–Α―à–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹ –≤–Α―à–Β–Ι, ―¹ ―²–Ψ–Ι –Μ–Η―à―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ, ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Η –Φ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β 15% ―Ä–Ψ―¹―²–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η, –Α –≤―΄ –Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η 30% –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β. –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³–Η―Ä–Φ–Α―Ö –≤–Η―¹―è―² –≤–Α―à–Η –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄".
–‰–Φ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ –Ϋ–Η―Ö ¬Ϊ–Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ¬Μ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –™–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Η–Ι, –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Β―â―ë –Η, –Β―¹–Μ–Η ¬Ϊ–Ζ–Α―É–Φ–Ϋ―΄–Φ¬Μ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Η –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α―è―¹―¨ –ü―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä-–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –€–Α―Ä–≥–Α―Ä–Β―² –Δ–Β―²―΅–Β―Ä. (–û–Ϋ–Η ―É–Φ–Η–Μ―è―é―²―¹―è –≤―¹–Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α). –ö–Α–Κ–Α―è ―É–Φ–Ϋ–Η―Ü–Α!!! –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α, –Ϋ–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à–Α―Ö―²―΄ –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤ –Μ―é–¥–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι.
–î–Μ―è ―²–Β―Ö ―¹ –Ψ―²―à–Η–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Α–Φ―è―²―¨―é βÄ™ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η –≤ –Γ–Γ–Γ–†, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β βÄ™ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –£ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –≤ –Γ―É―΅–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à–Α―Ö―²―΄, –¥–Α, –Η ―É–≥–Ψ–Μ―¨ ―²–Α–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Μ―é–¥–Β–ΙβÄΠ –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β βÄ™ –≤ ¬Ϊ–Ζ–Α―Ö–Ψ–Μ―É―¹―²―¨–Β¬Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–ΑβÄΠ –Ω–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ. –· ―²–Α–Φ –±―΄–Μ, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β.
–Θ–Ι–¥―è ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–≤–Κ―É –≠―¹―¹–Β –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Β, ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–Κ–Μ―é―΅–Α―é―¹―¨ –Ψ―² –≤―¹–Β–Ι –≤–Η―²–Α―é―â–Β–Ι –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η. –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ. –‰, –Κ–Α–Κ ―É–≥–Ψ–Μ–Β–Κ –Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ–Β, –Ϋ–Β―¹―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ–Ψ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² ―¹–≤–Ψ―ë –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.
–£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–ΨβÄΠ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η.
–£ –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –î–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ β³• 14, ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä 57 –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é:
 –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –£―¹–Β―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤ –ü―Ä–Η–Ϋ―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι
–ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –£―¹–Β―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤ –ü―Ä–Η–Ϋ―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι
–‰―²–Α–Κ, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –±―É–¥–Β–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η. –£―΄ βÄ™ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―è –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–ΗβÄΠ
|
|
40. –î–Η–Ψ–≥–Β–Ϋ: –î–Ϋ–Β–Φ ―¹ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Β–Φ –Η―â―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α
| |
–î―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –î–Η–Ψ–≥–Β–Ϋ:
–î–Ϋ–Β–Φ ―¹ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Β–Φ –Η―â―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α
–£―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β
–· –Ε–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅―É –Κ―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –≤–Μ–Η―è―é―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –™–Μ–Α–≤ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤. –û―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Α–≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Β–Ι –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ–Η.
–ù–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Γ―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Ι, –Κ–Α–Κ –Μ―É―΅ –¥–Η–Ψ–≥–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―è ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²―¨ –Η –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –Η―â―É―â–Β–≥–Ψ –Η–Φ –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ß―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²―¨ –≥–Β–≥–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–Φ. –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ βÄ™ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç―²–Η–Φ –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Μ–Α–≥–Α –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―à–Β–Μ―¨–Κ–Α, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Η.
–ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―΄–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β–Φ―É, ―è –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Η –≤ ―²―Ä―ë―Ö–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Η, –Η―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Α –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―ë–Φ –î–Η–Ψ–≥–Β–Ϋ–Α. –Δ―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ–±―ä―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β. –ê ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨: –Η ―¹―Ä–Β–¥–Α –Ψ–±–Η―²–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η.
|
|
41. –ù–Β–Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ –ê―Ä―Ö–Η–≤–Α –ü–Α–Φ―è―²–Η
| |
–û–±–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ-–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥―É
–Η ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Η –Β–≤―Ä–Β―è:
–¦–Η–≤―à–Η―Ü, –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Κ–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι –Κ –Ϋ–Η–Φ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥,-
―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η –Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η
–ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ζ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Η ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Η―², –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―΄―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥―Ä―É–≥–Β –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β –•–Α–Ϋ–Β –Γ–≤–Β―Ä–±–Η–Μ–Ψ–≤–Β. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ –Κ –Ω–Μ–Β―è–¥–Β –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Ψ–≤, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ¬Ϊ―¹–Ψ–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –î―΄–≥–Α–Μ–Ψ-―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι, –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ë–Β―Ü (–£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α–Μ―΄ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Β–≥–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η), –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê―Ä–Κ–Η―¹ –ö–Η―¹–Β–Μ―ë–≤ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β–Φ–Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η –•–Α–Ϋ –Γ–≤–Β―Ä–±–Η–Μ–Ψ–≤. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―è –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η–Β –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –ö–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö (–£–û–¦–Γ–û–ö`–Β), ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –±―É–¥―É―â–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Α–Κ –¥–≤–Α –Β–≤―Ä–Β―è ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É.
–ü–Ψ–¥ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―à―É―²–Κ–Ψ–Ι –•–Α–Ϋ–Α ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η. –ö–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–ö-19¬Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –î–≤―É–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η, ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Γ-267¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ-270¬Μ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ –Γ–≤–Β―Ä–±–Η–Μ–Ψ–≤, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –±–Β–¥―¹―²–≤―É―é―â―É―é –ê–ü–¦, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω―Ä–Η―ë–Φ―É –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –Η –Ω–Μ―΄–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―²–Β –¥–Β–Μ―¨―³–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ¬Ϊ–¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι¬Μ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –±―΄ ―ç―²―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α. –Γ–≤–Β―Ä–±–Η–Μ–Ψ–≤ ―²–Α–Κ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-270¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-19¬Μ. –ö –≥–Ψ―Ä–Μ―É –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Ψ–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―à―¨ –≤–Β―¹―¨ ―²―Ä–Α–≥–Η–Ζ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Μ―ë–Ζ―΄ –Ϋ–Α–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –ë–ß-V –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Γ―²–Α―¹ –ö―É–¥–Η―è―Ä–Ψ–≤, –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄, –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –û –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–Γ-270¬Μ, ―¹―²–Α–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –±―É–¥–Β―² –Β―â―ë –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Β–≤―Ä–Β―è–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Β–≤―Ä–Β–Η: –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹ –¥–Β–≤–Η―΅―¨–Β–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅¬Μ - ―É –Ϋ–Η―Ö –≤ –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅¬Μ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –ë–Α―²―¨–Κ–Η-―Ö–Ψ―Ö–Μ–Α –¦―É–Κ–Α―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –î–Α, –Η ―è –Η–Ζ –¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤.
–£ –ü–Α–Φ―è―²―¨ –•–Α–Ϋ–Α –Γ–≤–Β―Ä–±–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Η –¥–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Η –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―è –≤–Ζ―è–Μ ―É –•–Α–Ϋ–Α: ¬Ϊ–Κ–Α–Κ –¥–≤–Α –Β–≤―Ä–Β―è ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É¬Μ. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η―Ö ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ι –≤ –Γ–€–‰ (―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α―Ö –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η) –Η –Ω–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –™–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–≠―²–Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―΄, ―â–Β–Μ–Κ–Ψ–Ω–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤―Ü–Α –Ψ―²―Ü–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–¥―É―²¬Μ. –ö –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ ―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε―É, –Η–Φ–Β―è –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Α–Ε –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ βÄ™ ―ç―²–Η –¥–≤–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ―΄. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η. –£―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε―É –Κ ―¹–Ψ―é–Ζ―É –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Α―²–Η–Η –Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄―Ä–Ψ–¥–Κ–Η, –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―²–Α–Φ: –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―Ä―΄, ―¹–≤–Α–Ϋ–Η–¥–Ζ–Β, –Ω–Α―Ä―³―ë–Ϋ–Ψ–≤―΄, –≤–Ψ―¹―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―΄, –¥–Η–±―Ä–Ψ–≤―΄, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―΅―É–Ε–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Β, –Κ–Α–Κ –Α–≥–Β–Ϋ―²―΄ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―è―², –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ (―ç―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥?!). –ß―É–≤―¹―²–≤―É–Β―²―¹―è –≤―΄―É―΅–Κ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é―² ―¹―Ö–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, (–Ϋ–Β ―É–≥–Μ―É–±–Μ―è―è―¹―¨ –¥–Ψ ―¹―É―²–Η!), –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–Φ (!), ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é –Η –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Η –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Η―Ö –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ, ―²–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η:
–™–Η―²–Μ–Β―Ä (1925–≥.), –™–Β–±–±–Β–Μ―¨―¹ (1941–≥.), –î–Ε–Ψ–Ϋ –ö–Β–Ϋ–Ϋ–Β–¥–Η (1961 –≥.), –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹ –ë–Β–Ι–Κ–Β―Ä, –≥–Ψ―¹―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Γ–®–ê (1992 –≥.) –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β ¬Ϊ–Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ–Η¬Μ ―²–Η–Ω–Α –ö–Μ–Β–Φ–Α–Ϋ―¹–Ψ –Ψ―² –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Μ–Ψ―Ä–¥ –€–Η–Μ―¨–Ϋ–Β―Ä –Ψ―² –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Η–¥–Β―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―é –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Α –ë–Ψ–Ϋ–Α–Ω–Α―Ä―²–Α (1812 –≥.):
¬Ϊ...–ï―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ –Φ–Η―Ä –≤ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è―Ö –ö―Ä–Β–Φ–Μ―è, ―è –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―é –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –±–Β―¹―¹–Η–Μ–Η–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Α―Ö –ù–Β–≤―΄. –ù–Ψ –Φ–Ψ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –±―É–¥―É―² ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―è –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε―É –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, –Α –¥–Μ―è –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –•–Ψ–Ζ–Β―³–Α –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Φ –Γ–Φ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥―¹―²–≤–Ψ. –€―΄ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–¥–Η–Φ –ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―Ö–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Α –Ϋ–Α –î–Ψ–Ϋ―É ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Φ –Κ–Α–Ζ–Α―΅―¨–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹―²–≤–Ψ... –€―΄ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Ψ–±–Η–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η―é –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Φ –Β–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ ―²―¨–Φ―É ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Η–Η, ―΅―²–Ψ–± –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α –≤–Ω―Ä–Β–¥―¨ –±―Ä–Β–Ζ–≥–Μ–Η–≤–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η...¬Μ
–ö–Α–Κ–Α―è –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α?! –≠―²–Ψ ―²–Α ―Ö–≤–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è, ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–≥–Α―²–Β–≤―à–Α―è –Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Ι –Η –Β―ë –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –½–Β–Φ–Μ–Η. –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―΄―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Α –≤ 1918-22 –≥.–≥., –≤ 1941-45 –≥.–≥. (―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η–Ι: 30% –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –™–Η―²–Μ–Β―Ä―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α –Η ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η ―²–Ψ–Ε–Β, –Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η –Ψ―² ―²―è–≥–Ψ―² –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β –Η –Ϋ–Α –Μ–Α–Ζ―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Α―Ö). –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η –Η–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ: ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―²–Β?!¬Μ. –£―¹―è –≤–Α―à–Α –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―à–Η―²–Α –±–Β–Μ―΄–Φ–Η, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Η―²–Κ–Α–Φ–Η. –ê ―¹–Α–Φ–Η –≤―΄ –±―É–¥–Β―²–Β –Ω―Ä–Η–≥–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Κ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Ψ–Μ–±―É. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―Ä –Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―â–Β–Β.
–ö ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β–Μ―é–¥―è–Φ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥―Ä―É–±–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―Ü, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –≤―¹–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–û–Ϋ–Η ―Ä–Α–¥–Η –Ϋ–Α–Ε–Η–≤―΄ ―É ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ϋ–Ψ–≥―É –Ψ―²–≥―Ä―΄–Ζ―É―² –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―è–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η¬Μ. –£–Ψ―² –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β. –£―¹―ë –Ε–Β ―è –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ―è―é ―¹–Β–±―è –Κ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Κ –Β―ë –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä―΄–Μ―É. –ù―É, –Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β, ―è, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≤ ―à–Ψ–Κ –≤–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥ –Ω–Ψ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –î–Ψ–Φ–Α ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Ψ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²―¹―²–≤―É –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Β.
–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –≤ –Κ/―³ ¬Ϊ–ë–Β–≥¬Μ –Ω–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É –ù.–ë―É–Μ–≥–Α–Κ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ë–Β–Μ–Α―è –≥–≤–Α―Ä–¥–Η―è¬Μ. –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²–Α (–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –€.–Θ–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Α), –Η–≥―Ä–Α―è –≤ –Κ–Α―Ä―²―΄ ―¹ ―ç–Κ―¹-–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ (–ï–≤―¹―²–Η–≥–Ϋ–Β–Β–≤―΄–Φ), –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Β–Φ―É: ¬Ϊ–· –±―΄ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β–±―è ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ-–±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è¬Μ. –Δ–Α–Κ –Η ―è –±―΄ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–Κ–Η–Ϋ―Ö–Β–¥―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β–Φ, –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄, –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η―Ö –Η–Ζ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―Ä/―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–≠―Ö–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄¬Μ –Ϋ–Α–±–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–¥―É. –‰ ―²―É―² –Ε–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ-–±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Η–±–Η―Ä―è–Κ-―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Δ―Ä–Ψ–Ω–Η–Ϋ. –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Κ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ¬Μ.
–≠―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Η –≤ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Φ 1941 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²―¹―²–Ψ―è―²―¨ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –£―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–ΒβÄΠ –Ψ–±―ä―ë–Φ–Ϋ–Ψ. –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ –Κ ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―é―² ―¹–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―²―Ä―ë―Ö –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ (―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ) –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Β–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –Θ–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η –Ε–Β ―³–Α―à–Η―¹―²―΄ –¥―Ä–Α–Ω–Α–Μ–Η –Ψ―² –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β 200 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –±―Ä–Ψ―¹–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –≤–≤–Β–Μ–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―²―Ä―è–¥―΄. –ê –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ―è–Μ–Η –Η―Ö –Ψ–Ω―΄―². –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ―²―Ä–Α–≤―΅–Α―²―΄–Β ―É–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α―é―² –Η–Μ–Η ―²–Α–ΚβÄΠ–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–ΨβÄΠ–Μ–Β–≥–Κ–Η–Φ–Η ―à―²―Ä–Η―Ö–Α–Φ–Η ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ζ―É–±―΄.
–ê –Ϋ–Α―à–Η, –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–ΒβÄΠ –Φ–Β―¹―²–Β―΅–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―¹ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―²: ¬Ϊ–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι-―¹―è–Κ–Ψ–Ι ―É―²–Ψ–Ω–Η–Μ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹ –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η¬Μ. –Δ–Ψ –Ε–Β, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η–Φ―΄–Ι –Α–Ϋ―²–Η―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Η―¹―² –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –Θ―ë–Φ–Ψ–≤ –ê–≤–Β–Ϋ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―ç―²–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Α –ü–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β !? –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ –ü–Β―²―Ä–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ: ¬Ϊ–û–Ϋ –¥–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ö–Α–Μ ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Μ¬Μ. –‰ –Β―â―ë –ê–≤–Β–Ϋ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―è―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ζ–Ϋ–Η. –ù–ΨβÄΠ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ (–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ) –Ζ–Α–Μ–Β –î–Ψ–Φ–Α ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö, –Ζ–Α–±–Β–Ε–Α–Μ, –Ζ–Α–Ω―΄―Ö–Α–≤―à–Η―¹―¨ (–≤―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ- –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, 2 ―ç―²–Α–Ε), –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ–Ψ–≤ –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –≤–Ψ –≤―¹―ë ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β: ¬Ϊ–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η βÄ™ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η –ß–Α―É―à–Β―¹–Κ―É –Η –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―É –ï–Μ–Β–Ϋ―É. –‰ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨: –≤–Β―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β―¹–Κ–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –· –±―΄–Μ ―²–Α–Φ, –Η –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β―É―é―²–Ϋ–Ψ.
–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ –Λ–†–™, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –™–Β–Ι–Ϋ―Ü –®–Β–Β–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ–Β –™―É―¹―²–Μ–Ψ―³–Β¬Μ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²―É –≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ –ê.–‰. –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-13¬Μ. –‰ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–î–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ë–Α–Μ―²―΄―Ü–Κ–Η¬Μ –≤ –™–¥–Α–Ϋ―¨―¹–Κ–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1956 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Α –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –™–Β–Ι–Ϋ―Ü–Α –®–Β–Β–Ϋ–Α. –£ –Ϋ–Β–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―²―¹―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―¹―É–¥―¨–±―É ―²―΄―¹―è―΅ –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü–Β–≤. –ß―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –¥–Β―²–Η, ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η? –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Μ–Β–Ζ–Μ–Η –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η ¬Ϊ–Γ–Γ¬Μ, –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Η―è –Η –≤―¹–Β, ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η. –‰―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö βÄ™ ―¹–Α–Φ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –±―É―Ä–≥–Ψ–Φ–Η―¹―²―Ä –™–¥―΄–Ϋ–Η βÄ™ –Β–Φ―É –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Α–Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α¬Μ. –™–Β–Ι–Ϋ―Ü –®–Β–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Η―à–Β―²: ¬Ϊ–™―É―¹―²–Μ–Ψ―³¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Η–Φ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β–Φ –¥–Ψ 20 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1940 –≥–Ψ–¥–Α, –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 2-–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―ç―²―É ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η―é –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –≥―Ä–Ψ―¹―¹-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –î–Β–Ϋ–Η―Ü–Α. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-13¬Μ –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄: ¬Ϊ–™―É―¹―²–Μ–Ψ―³¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Ψ–Ι, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä―É–¥–Η―è–Φ–Η. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η –¥–Β―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –≤ ―¹–Η–Μ―É –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤. –ë–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –Η –Β–Φ―É –Ϋ–Β―² ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö¬Μ.
–€–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤―É –ê.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η –Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Α–Φ. –Δ–Α–Κ, 2 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1945 –≥–Ψ–¥–Α ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Α―è –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–ê–≤―²–Ψ–Ϋ–±–Μ–Α–¥–Β―²¬Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ –™―É―¹―²–Μ–Ψ―³¬Μ –±―΄–Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –î–Α–Ϋ―Ü–Η–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ –Η ―É―à―ë–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ ―¹ 7-―é ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Ψ―¹―¨ 998. –ù–Α –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 3700 –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, –Η ―¹–≤―΄―à–Β 4000 –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ ―¹ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –ê ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι ―ç―²–Α –Ε–Β –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è–Μ–Α: ¬Ϊ–£ ―΅–Η―¹–Μ–Β –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ 22 –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨ –Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä―É―¹―¹–Η–Η, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η–Ζ –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α –™–Β–Ϋ―Ä–Η―Ö–Α –™–Η–Φ–Μ–Β―Ä–Α (–û―² ―¹–Β–±―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Β―â―ë –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨: –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Α―è ¬Ϊ–Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è¬Μ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Μ–Α–≥–Β―Ä–Β–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η βÄ™ 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Φ–Η―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²―É―à–Η–Μ–Α –Ω–Β―΅–Η –û―¹–≤–Β–Ϋ―Ü–Η–Φ–Α). –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Α –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ 370 ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –¥–Ψ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ –Ω–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η ―¹ –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ¬Ϊ–£–Α–Μ―¨―²–Β―Ä¬Μ, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ ¬Ϊ–Γ–Γ¬Μ. –Λ–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Η―è –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–ê–≤―²–Ψ–Ϋ–±–Μ–Α–¥–Β―²¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –≤ –Γ.-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β.
–ü–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ¬Ϊ–£–Α–Μ―¨―²–Β―Ä¬Μ. –û–Ϋ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Β―² ―²―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―É―é ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ü–¦ –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –ü–¦–û (–ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ-–¦–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α) –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β, –Κ–Ψ–Η–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –¦–Α-–€–Α–Ϋ―à, –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α―è –Β–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―΄, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Α―è –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Α―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²―Ä–Β–Φ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ III ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ―É–¥–Α –±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –ö–Ψ–Μ–Β―¹–Ψ –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ¬Ϊ–Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Α–Φ–Η¬Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η (–Ω―É―¹–Κ–Α–Ι –Ϋ–Β –≤―¹–Β 80, –Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –¥―é–Ε–Η–Ϋ–Α –Η―Ö) –Ζ–Α–±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±―΄ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –ù–Ψ―Ä–Φ–Α–Ϋ–¥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –‰ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Θ.–ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ –‰.–£.–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ. –ü–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –î.–≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―Ö–Α―É―ç―Ä–Α, –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –¥–Μ―è ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ 21 ―²―΄―¹. ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≥―Ä―É–Ζ–Α –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ.
–€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, ―ç―²–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄ –≥―Ä–Ψ―¹―¹βÄ™–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Μ–Α –î―ë–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α. –‰ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ―¹―è –±―΄ –≤ –≤–Ψ–¥–Α―Ö –¦–ΑβÄ™–€–Α–Ϋ―à–Α. –ê ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –†―É–Ζ–≤–Β–Μ―¨―²―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Δ―Ä―É–Φ―ç–Ϋ βÄ™ –Η –€–Η―Ä –±―΄ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –ù–ï–ü–†–ï–î–Γ–ö–ê–½–Θ–ï–€–û–Γ–Δ–‰ βÄ™ –ù–ï–‰–½–£–ï–Γ–Δ–ù–û –ö–Θ–î–ê –ë–Ϊ –ü–û–ö–ê–Δ–‰–¦–û–Γ–§ –ö–û–¦–ï–Γ–û –‰–Γ–Δ–û–†–‰–‰. –ê―²–Α–Κ–Α –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –€–‰–†–û–£–Θ–° –½–ù–ê–ß–‰–€–û–Γ–Δ–§.
–Γ–Α–Φ –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–™―É―¹―²–Μ–Ψ–≤¬Μ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η –Ϋ–Β –≤–Β–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–Η–Μ ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ –Ζ–Α –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ―¹―² –Β–≤―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄βÄ™–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ –Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤―è―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ.
–ö –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –Γ.–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü―΄. –ö–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ –Λ–†–™ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –ö.–€–Β―²―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Γ–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ ―΅―²―è―² –Η –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –ü–Ψ–¥–≤–Η–≥ –ê.–‰ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―é―² –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Α –Φ―΄ ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤¬Μ.
–£ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1989 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –±―΄–Μ –Ψ―²―Ä―è–¥ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Λ–†–™. –ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-13¬Μ ―Ü–≤–Β―²―΄, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ―É―é –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Κ―É –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ―É.
–ê –Ϋ–Α–Φ, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Φ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Φ–Β―à–Α–Β―² ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Ψ―¹–Κ―É –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–ʖ̖ؖ ⳕ105, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α―à –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ, –Η –¥–Α―²―¨ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Β–≥–Ψ –‰–Φ―è.
–£–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄. –Δ–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―â–Β–Μ–Κ–Ψ–Ω―ë―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Α―Ä–Α-–€―É―Ä–Ζ–Α, ―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–≥–Ϋ―É–≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η―Ü–Κ–Α―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤–Β―à–Α–Μ–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ¬Ϊ–≠―Ö–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄¬Μ.
–· βÄî 1930 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€–Ψ―è –Φ–Α–Φ–Α, –î–Ψ–Φ–Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–¥–Η–Κ. –î–Β―²–Ψ–Κ ―²–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Α–Μ–Α―²–Η–Κ–Η, –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Η –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–Ε–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ζ–Α ―Ä―΄–±―¨–Η–Φ –Ε–Η―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ―΄ ―²―É―² –Ε–Β –Ζ–Α–Β–¥–Α–Μ–Η –Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²–Η–Κ–Α–Φ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α ―¹ ―¹–Ψ–Μ―¨―é.
–Δ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Β―â―ë –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –£–ö–ü(–±), –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―É―Ä―Ä–Ψ–≥–Α―²―΄, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è ―ç–Μ–Η―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Η –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Β, ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –ù–Β –±–Β–Ζ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η: –±―é–¥–Ε–Β―² –Π–†–Θ (–Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β) –Γ–®–ê –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ 250 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, –Α –≤ 1997 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ 25 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤, –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –û ―΅―ë–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Γ―ë–Φ–Η–Ϋ–Α ¬Ϊ–‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η―è –î–Ψ–±―Ä–Α¬Μ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Μ―é–¥–Η, –¥–Ψ―¹–Β–Μ–Β –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–≤―à–Η–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Η–Ζ ―Ü―ç―ç―Ä―É―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –¥–Α―é―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Α–Φ–Β―Ä―É. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω –ë–Α―Ä–Ϋ–Β―²―² –Λ―Ä–Α–Ϋ–Κ–Μ–Η–Ϋ –≠–Ι–¥–Ε–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ω–Ψ–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ê –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨: ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Η –±–Β–Ζ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Β–Κ, –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―¹ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ 500 –¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ - ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄, –Κ–Α–Κ –≤―΄ –≤–Η–¥–Η―²–Β, –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Η–Β¬Μ. –≠―²–Η―Ö –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –≤―΄―΅–Η―¹–Μ―è―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –û–Ϋ–Η –≤―¹–Β–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Η–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ(–¥)-–Μ–Η―Ü―É¬Μ.
–ü―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ―É –Γ–Γ–Γ–† –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β, –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Κ–Ψ―¹–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―è―Ä–Κ–Η–Β ―É–Μ–Η–Κ–Η: –Κ―É–¥–Α ―²―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―é–¥–Ε–Β―²–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä―΄ –Π–†–Θ.
2 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1984 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Φ–Η―Ä–Α–Β―² ―΅–Μ–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–±―é―Ä–Ψ –Π–ö –Γ–ï–ü–™, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –™–Ψ―³–Φ–Α–Ϋ.
15 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α 59-–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Η―Ä–Α–Β―² ―΅–Μ–Β–Ϋ –Π–ö –ö–ü–ß, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –£–ù–† –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –Α―Ä–Φ–Η–Η –û–Μ–Α―Ö.
16 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –≤―¹―ë ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α 66-–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Η–≥–Α–Β―² ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –Π–ö –ö–ü–ß, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ß–Γ–Γ–† –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η –î–Α―É―Ä–Α.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –¥–Ϋ―è, 20 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è, –≤ –Φ–Η―Ä –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–±―é―Ä–Ψ –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Θ―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–≤.
–€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–Α―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―³–Α–Κ―²―΄, –Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ (–Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η) - –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ. –î–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Ψ―¹–Ω–Α―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é. –‰ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η ―ç―²–Η ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―². –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤ ―É–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –ö–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ε–Β ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ü–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α―â–Η―²―΄ ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Η―Ö ―¹ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η, ―è –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ―¹―²―¨―é, –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―é―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü―¹–Μ―É–Ε–±. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨!!!
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –±–Α―Ä–Α–Ϋ―É βÄî –ö–Α―Ä–Α-–€―É―Ä–Ζ–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É, –Ζ–Α―è–≤–Η–≤―à–Β–Φ―É: ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η―Ü–Κ–Α―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤–Β―à–Α–Μ–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι¬Μ. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β ―É―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η. –ê –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É–≥–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –ë–Α―Ä–Φ–Α–Μ–Β–Β–Φ –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Β―è –ß–Α–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι ―É–Ε–Β –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, ―΅―²–Ψ –Η –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Β–≥–Ψ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ ¬Ϊ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ―É―é¬Μ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–î–Α, –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω –ë–Α―Ä–Φ–Α–Μ–Β―è βÄ™ ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―² ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –ï–¥–¥–Η–Ϋ –ê―Ö–Φ–Β―², –¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –¥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Α―³―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –ê―³―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É –≤ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η―é, –Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Β–±―è –≤ –•–Α–Ϋ-–ë–Β–¥–Β–Μ―¨ –ë–Α–Κ–Α―¹―¹–Α, ―¹―²–Α–≤ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Β―Ä–≥–Μ–Η –Η –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―²–Ψ ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–±–Α–Μ–Α –≤ –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Α―Ö –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, ―³–Α―Ä―à–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Η―¹–Ψ–Φ.
–î–Α, –≤―¹―ë ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ, –ö–Α―Ä–Α-–€―É―Ä–Ζ―΄, ―¹–Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ―² ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ–Α. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―΅–Β–Φ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ¬Ϊ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–û–¥–Η–Ϋ ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Β―â―ë ―É–Φ–Ϋ–Β–Β¬Μ. –£―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Β–Φ–Η–Ζ–Η―Ä―É―é―² –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –≤ ―²–Β–Μ–Β–≤–Β―Ä―¹–Η–Η –≤―¹―ë ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ¬Ϊ–≠―Ö–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄¬Μ.
–û―²―²―É–¥–Α –Ε–Β, –Η–Ζ ¬Ϊ–≠―Ö–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄¬Μ –Η –Η–Ζ –Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Γ–€–‰ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –≤–¥–Α–Μ–±–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, ―΅―²–Ψ, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Ψ―², –Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –£―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²–Α-–Ω―Ä–Η―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ζ–Α―²―É–Φ–Α–Ϋ–Η–≤–Α―é―² –Η–Φ –Φ–Ψ–Ζ–≥–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Ψ―²―΄ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―à–Η–Β –Κ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α I –Η –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―É II –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –≤–Β–Κ―²–Ψ―Ä –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è, 10 –¥–Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Μ–Η –£–Β―¹―¨ –€–Η―Ä, –Κ–Α–Κ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―²–Β―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―², –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –î–Ε–Ψ–Ϋ –†–Η–¥.
–€–Ψ–≥–Μ–Α –Μ–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β –€–Η―Ä–Α ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ―²―É―¹–Κ–Ϋ–Β–Μ–Η ―Ü–≤–Β―²–Α, –Ψ―²–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―è–Φ–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―¹–Α–Κ―¹–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –†–Α–Ζ–≤–Β –Ψ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Α–Κ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¹―è ?!
–£ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ (1943 –≥.) –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –≤–Μ–Η―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –≥–Β–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―¹–Α–Κ―¹–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –½–Α–Ω–Α–¥–Α, –Ϋ–Α –Η–¥–Β―è―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –≤―¹―è –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―è –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Α βÄ™ –î–Ε–Ψ–Ϋ–Α –Ξ―ç–Μ―³–Ψ―Ä–¥–Α –€–Α–Κ–Κ–Η–Ϋ–¥–Β―Ä–Α - –≤―΄―à–Μ–Α ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è ―¹―²–Α―²―¨―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ü–Β–¥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Γ–Γ–Γ–†, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É –≤―ë–Μ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Ψ―Ä―¨–±―É ―¹ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ.
–€–Α–Κ–Κ–Η–Ϋ–¥–Β―Ä –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Α―à ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –≤―Ä–Α–≥ βÄî –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ!¬Μ –ü–Ψ ―¹―É―²–Η –¥–Β–Μ–Α, ―¹―²–Α―²―¨―è –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β ―΅–Β–Φ –Η–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Α–Κ –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–≤–Α―Ä―¹―²–≤―É –≥–Β–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –¥–Μ―è –≤―¹–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤―è―â–Β–Ι ―ç–Μ–Η―²―΄ –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―¹–Α–Κ―¹–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –½–Α–Ω–Α–¥–Α: ―΅―²–Ψ –Η –Κ–Α–Κ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –¥–Μ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Α.
–¦–Η–¥–Β―Ä―΄ –½–Α–Ω–Α–¥–Α –†―É–Ζ–≤–Β–Μ―¨―² –Η –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―¨ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η ―ç―²–Η ¬Ϊ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Η¬Μ –Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–ΗβÄΠ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―²–Β–Κ―¹―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Β–Φ–Ψ―Ä–Α–Ϋ–¥―É–Φ–Α ⳕ 121 1943 –≥. –Μ–Β–≥ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―²–Ψ–≤. –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–Φ―É―¹―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ―É-–Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Α–Μ―É –‰―¹―Ö–Α–Κ –ê–±–¥―É–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –ê―Ö–Φ–Β―Ä–Ψ–≤―É. –î–Α, –Η –Ψ–± –Η―Ö –≤―¹–Β―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Α–Κ―É–Μ–Η―¹–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―²―É–≥–Α―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –‰ –Ψ–Ϋ, –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.
–‰ –Β―â―ë ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Α–Κ―². –£–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ 23 –Φ–Α―è, ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –ê–Κ―²–Α –Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²―É–Μ―è―Ü–Η–Η –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –≤ ―²–Η―Ö–Ψ–Φ, ―É―é―²–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β―΅–Κ–Β –Λ–Μ–Β–Ϋ―¹–±―É―Ä–≥–Β –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α –™―Ä–Ψ―¹―¹ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–Φ –î―ë–Ϋ–Η―Ü–Β–Φ. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Ω–Μ–Β–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Η, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α―Ö –Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Α―Ö, –Α ―¹–Α–Φ–Α ―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è –î–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Γ–Γ¬Μ. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β ―΅–Β–Κ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Δ―Ä―É―¹–Ψ–≤―΄–Φ. –î―ë–Ϋ–Η―Ü ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η –¥–Ψ ―¹―É–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ –ù―é―Ä–Ϋ–±–Β―Ä–≥–Α.
–ù–Β –¥–Α–Μ―ë–Κ –Ψ―² –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ―ç―² –Η –±–Α―Ä–¥ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η–Ι: ¬Ϊ–≠―²–Ψ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―¨ –≤ 18-–Φ –≥–Ψ–¥―ɬΜ. –ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 18-–Φ, –Α ―É–Ε ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ξ–Ξ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α–¥–Α―é―â–Η–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Β–Ι. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Α–Μ―¨–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ψ–Ϋ –Ψ―²–¥–Α–Β―² –ù–Η–Κ–Η―²–Β –Ξ―Ä―É―â―ë–≤―É –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Η―à–Β―² –Α–≤―²–Ψ―Ä –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–½–Α–≥–Α–¥–Κ–Η –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Γ–Γ–Γ–†¬Μ (–€., 2003) –ê.–ü. –®–Β–≤―è–Κ–Η–Ϋ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä.29 ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α: ¬Ϊ–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1964 –≥. –£ –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η 90-–Μ–Β―²–Η―è –Θ.–ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―è –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Ψ―¹―² –Κ–Α–Κ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―è―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –û–Ϋ –≤ –Ψ―²–≤–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–Ϋ―ë―¹ –≤―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤ –≤ 1000 ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―è. –≠―²–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ξ―Ä―É―â―ë–≤, ―²–Α–Κ –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Β–Φ –Β–Φ―É!¬Μ
–Θ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Μ–Α–Ϋ ¬Ϊ–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η¬Μ, –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ 1947 –≥. –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –€–‰-6 –£–Ψ–Μ–Β–Ϋ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –£–Η–≤―¨–Β–Ϋ–Α. –ê ―É–Ε–Β –≤ 1953 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ ¬Ϊ–û–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –¦–Η–Ψ―²–Β¬Μ - ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―É―è–Ζ–≤–Η–Φ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²βÄΠ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë–Μ–Ψ–Κ–Α. –ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –±―΄–Μ –¥–Ψ–±―΄―² –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α–Φ–Η –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ–Η.
–Δ–Β–Κ―É―â–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η –Ω–Η–≥–Φ–Β–Η βÄî –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Ι –Η –≥–Ϋ―É―¹–Ϋ–Β–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–Ι –Μ–Ε–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–±―É–≥–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ βÄî –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α―é―² ―¹–Α–Φ―É ―¹―É―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α.
–Θ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤: –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η βÄ™ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Ζ–Α –±―É–≥―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –‰ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Φ―΄ –Ϋ–Β―¹–Μ–Η ¬Ϊ–Ζ–Α –±―É–≥―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –Θ –±–Α―Ä–¥–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Λ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α –Β―¹―²―¨ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ ¬Ϊ–½–Α –±―É–≥―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –ß―²–Ψ–±―΄ –Β―â―ë –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ζ–Α–±―É–≥–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α, –Ψ–Ϋ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Α–Φ ―΅―É–Ε–Β―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β―Ü: –≤ 60-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Β―Ä―² (–Ϋ–Β –Ω―É―²–Α―²―¨ ―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –£–Β―Ä―²–Ψ–Ι) βÄî ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ ―Ä/―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ë–Η–ë–Η–Γ–Η¬Μ - ―ç―²–Ψ―² –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Λ―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –Ξ–Α―Ä―¨–Κ–Ψ–≤–Β, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Η –Η–Ζ–¥–Α–Μ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β, –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ζ–Μ–Ψ–Ω―΄―Ö–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Κ–Ϋ–Η–≥―É ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1941 βÄ™ 45 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤¬Μ. –£ –Ϋ–Β–Ι –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ―É –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Β―â―ë –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ –≤–≤–Β―¹―²–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄. –ù–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―¹ ―Ä―É–Κ–Η –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –‰ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω–Η―à–Β―²: ¬Ϊ–‰–Ζ –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –ë–Η―²–≤―΄ –≤―΄―à–Μ–Η ―Ä–Α―¹―à–Η―²―΄–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Φ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η –Η–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ¬Ϊ–Η―Ö–Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Μ–Η–≤―É–¥―¹–Κ–Η–Φ¬Μ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α―²–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è!¬Μ
–¦–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ψ ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―è―Ö 20-30 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –≤―΄–¥–Α–≤–Α―è –Η―Ö –Ζ–Α –Η―¹―²–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι, –Ψ―²―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ―² ―¹–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü―΄–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ê―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥–Α –™–Θ–¦–ê–™¬Μ, –¥–Ψ―à–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β.
–û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―²–Β–Φ―΄, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η, –≥–Η–Ω–Ψ―²–Β–Ζ―΄ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―Ö ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Α―é―²―¹―è –±–Β–Μ–Μ–Β―²―Ä–Η―¹―²―΄, –Ω–Ψ―ç―²―΄, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η, ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―²–Α–Φ –Ψ–±–Ψ–±―â–Η―²–Β–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ―¹–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Β ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –±―΄–Μ–Α –ë–Η–±–Μ–Η―è, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ –¦―É–≤―Ä–Β, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–ΑβÄΠ–Ψ–¥–Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β–Β, –Α ―²–Ψ –Η ―²―Ä–Β―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Α –±–Η–±–Μ–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β ―²–Β–Φ―΄. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Α―Ä–¥–Ψ –¥–Α –£–Η–Ϋ―΅–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –•―é–Μ―¨ –£–Β―Ä–Ϋ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ20000 –Μ―¨–Β –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι¬Μ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤.
–ù–Β –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η –Η –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Β―Ä―΄. –î–Α, –¥–Α (!!!), –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Β―Ä―΄βÄΠ–û–Ϋ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –ë―É–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –ΞI–Ξ –≤–Β–Κ–Α. –‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹–Ψ–Φ –Θ–Α―²―²–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –ï–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–ê–Δ–Δ. –ù–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α–Μ –Η –î–Ε–Ψ–Ϋ –™–Β―²–Β―Ä–Η–Ϋ–≥―²–Ψ–Ϋ βÄî –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à–Μ―è–Ω–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É–±–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–Φ ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ, –Α –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –™–Α–≤―Ä–Ψ―à–Η –Β–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Η―¹―²–Α–Μ–Η.
–Γ–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―É―¹ ―É–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―΅–≤―É, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, ―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²-–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–≠―Ö–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄¬Μ. –ö–Α–Κ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –©–Β–¥―Ä–Η–Ϋ–Α, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ –≤ 70-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Β―â―ë –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è: –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –¥–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄.
–ö–Α–Κ –Ε–Β ―ç―²–Ψ –≤―¹―ë ―¹–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Β? –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―΄―à–Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Η―Ö ―Ü–Η―³―Ä–Α–Φ–Η ―¹ ―à–Β―¹―²―¨―é –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ―É–Μ―è–Φ–Η, –Ε–Ψ–Ϋ–≥–Μ–Η―Ä―É―é―², –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―²―è―². –û–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η: –≤ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η –Η ―²–Β, –Ψ –Κ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄, –Α–≥–Β–Ϋ―²―΄ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ψ–Κ, –¥–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄, ―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä–Η―¹―²―΄, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ϋ–¥. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 21 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ 22 –Η―é–Ϋ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ψ ―¹–≤―΄―à–Β 932 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ (–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η 10 –Α―Ä–Φ–Η–Ι!), ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ 46600 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –≥–Ψ–¥, –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ 128 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨, –Η–Μ–Η –≤ ―΅–Α―¹ βÄ™ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―è―²–Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Β–Ι! –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ψ ―¹–≤―΄―à–Β 30 ―²―΄―¹. ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –¥–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η ―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, ―¹–≤―΄―à–Β 40 ―²―΄―¹. –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ϋ–¥–Η―²–Ψ–≤, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ 1319 –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ϋ–¥. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ζ–Α –≥–Ψ–¥ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η¬Μ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ 3500 ―΅–Β–Μ. (10 ―΅–Β–Μ. –≤ –¥–Β–Ϋ―¨), –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ 66 –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ϋ–¥ –≤ –≥–Ψ–¥.
–ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, –Β―â―ë –Κ ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―Ä–Β–Φ–Α―Ä–Κ–Α: –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ–Η –≥–Α–Μ–Η―Ü―΄–Ϋ―΄ –Η –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β―²―΄ –Ψ–±–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Φ–Κ–Η–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Β –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β –Η –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β, –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Η ―²–Α–Κ―¹–Η―¹―²–Α–Φ–Η, βÄî ―ç―²–Ψ –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –£–Μ–Α―¹―²―¨. –ê –≥–Β–Ϋ–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –ü–Α–Φ―è―²―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ω―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Δ―Ä–Ψ–Β–Κ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Φ, –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Α–±–Α–Ϋ–Η―Ö–Ψ–Ι, ―¹–Α–Μ―²―΄–Κ–Ψ–≤–Ψ-―â–Β–¥―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Α–Μ―²―΄―΅–Η―Ö–Ψ–Ι, ―¹ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―ç―²–Α –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α. –£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η¬Μ, –Η –Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ―Ä–Ζ―΄―Ö ―â–Β–Ϋ―è―² –≥―Ä―É–¥―¨―é –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Κ: –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Η–Ζ–≥–Μ–Α–¥–Η–Φ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥, –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, –≤ –≤–Η–¥–Β ¬Ϊ–Ψ–±–Ψ―é–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η¬Μ –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ–Η –Η ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ–Η, –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Μ–Α―¹―²–Η.
–£–Β–Ζ–¥–Β ―à–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―²–Α–Ι–Ϋ–Α―è, –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Γ–Γ–Γ–†! –‰ ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄: –≤―¹–Ω–Μ–Β―¹–Κ –±–Α–Ϋ–¥–Η―²–Η–Ζ–Φ–Α –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ βÄ™ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Φ. –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤–Μ–Α―¹–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Α–≥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –≥–Β―¹―²–Α–Ω–Ψ –Η ―².–Ω. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α–Ϋ–¥–Η―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α 1950-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –±–Α–Ϋ–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄. –‰ ―΅―²–Ψ –Η―Ö –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η?! –£–Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―¹ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ε–Β―¹―²―΅–Β –Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Φ–Α―¹―à―²–Α–±―΄ ―¹–Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Φ –Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–Φ―΄.
–Γ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Φ–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –Φ–Η–Ϋ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Α―é―², –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―²–Α, –Ϋ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α.
–£ –Η―²–Ψ–≥–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è ―Ü–Η―³―Ä–Α –Ψ―¹―É–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹―². 58 –Θ–ö βÄ™ 2319516 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―Ö ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―É―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ.
–‰–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β –Ζ–Α ―¹―É–Φ–±―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –Η ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤. –ù–Ψ –≤―΄ ―ç―²–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅–Η―²–Α–Β―²–Β ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Η ―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Η―à―É –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ–Μ–≤–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä/―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι ¬Ϊ–≠―Ö–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄¬Μ, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι –Ψ―² ¬Ϊ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –ï–Μ―¨―Ü–Η–Ϋ–Α¬Μ.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―ÉβÄΠ –Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö. –Δ–Α–Κ ―É–Ε –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Α –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Α―è –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ. –ê.–‰.–€–Ψ―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄, –≤–Β–Ζ–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Β –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–≤), –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –‰–Κ–Ψ–Ϋ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ß―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Α, –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–≤―è―²–Ψ-–ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ-–€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ―¨–Β–Ι –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–Ι. –Γ–Ψ–±―΅–Α–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Γ.-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ ―è –Η –Ϋ–Α –¥―É―Ö –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é: ―ç―²–Ψ―² –±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Β―²―΅–Α―²―΄–Ι –Ω–Η–¥–Ε–Α–Κ –Η –Φ–Β–Ϋ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Β –Γ–Γ–Γ–† –Η –Φ―ç―Ä/–Ζ/―¹–Κ–Η–Β –≤―΄–Κ―Ä―É―²–Α―¹―΄ –≤–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²–Η, ―Ö–Ψ―²―è –≤ –Ψ–±–Η―Ö–Ψ–¥–Β –ü–Η―²–Β―Ä –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ω–Ψ–Ϋ―΄–Ϋ–Β. –‰–Κ–Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–≥–Α–Ε–Α –¥–Μ―è –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ξ―Ä–Α–Φ–Α–Φ –Η –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –¥–Μ―è –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Η―Ö –≤–Β―Ä–Ψ–Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–Γ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –•–Β–Ϋ–Η –¦–Η–≤―à–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –¥–Μ―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Μ―è –Φ―ç―Ä–Ψ–≤ ―ç―²–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤: –Ψ―² –Φ―ç―Ä–Α –û–¥–Β―¹―¹―΄ ―¹ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Α–Μ―¨–Φ–Η―Ä―΄. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –¥–Μ―è –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ–Ψ-–≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Α―Ä―É–Ϋ–Κ–Η¬Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ ―¹―é―Ä–Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–Φ.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É –Ϋ–Α―¹ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Α: ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Μ―è –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α: –¥–Μ―è –‰―²–Α–Μ–Η–Η βÄ™ ¬Ϊ–‰―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ, –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η βÄ™ ¬Ϊ–ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η βÄ™ ¬Ϊ–ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–ΒβÄΠ¬Μ, –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β βÄ™ ¬Ϊ–ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–ΒβÄΠ¬Μ, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ™ ¬Ϊ–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–ΒβÄΠ¬Μ –ü–Ψ–Μ―¨―à–Η βÄ™ ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–ΒβÄΠ¬Μ, –¥–Μ―è –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤ βÄ™ ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ–®–ê¬Μ. –ê –≤–Ψ―² ―¹ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ, –Κ―É–¥–Α –Φ―΄ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ 2010 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹, ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ζ–Α–Φ–Η–Ϋ–Κ–Α. –‰ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –Α–Ϋ―²–Η―¹–Β–Φ–Η―²–Η–Ζ–Φ–Β, –Α –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Ψ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―²–Β―Ö, –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―²–Α–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η–Ζ ¬Ϊ–ü–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²: ―΅―²–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η.
–ù–Α―à–Η –≥–Β―Ä–Ψ–Η, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Ζ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Β –≥–Μ–Α–≤―΄, –Κ–Α–Κ ―²–Η–≥―Ä―΄ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ–Η –Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¨―è¬Μ. –†–Α–Ζ ―É–Ε, –Ω–Ψ―à―ë–Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ–± –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β –Η –Β–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β, ―ç―²―É ―²–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –≤―à–Η―Ä―¨ –Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–Β–Φ–Β.
–ö–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –≥–Μ–Α–≤–Β ¬Ϊ–£–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨¬Μ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Μ―é–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―²: –Ϋ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Η –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö.
–ù–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –≤ 2009 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α 46-–Φ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Β, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Μ–Ψ–≥–Ψ–≤–Β –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α, –≤ –Β–≥–Ψ –ö–Α–Μ–Η―³–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―¹―²―¨–Β, –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ.
–‰, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –¥―Ä―É–Ε–±–Α –¥―Ä―É–Ε–±–Ψ–Ι, –Α –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –≤―Ä–Ψ–Ζ―¨. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Ϋ–Ψ–Β –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ–Β –Η–Φ―è ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Α¬Μ –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ψ―³–Η―¹–Α ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―΄. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Η―Ö –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à―É―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä¬Μ, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –≤–Η–Ζ–Η―²–Α―Ö - –Η –Φ―ç―Ä–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–û–¥–Β―¹―¹–Α¬Μ, –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―΄ –≤ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Η–Φ –Φ–Α―¹―¹―É –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α―¹ –¥–Α–Ε–Β ―΅–Α–Β–Φ –Ϋ–Β ―É–≥–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―É –Ϋ–Η―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ ―¹―Ö–Ψ–Ε–Β―¹―²–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –≤–Β―Ä―¨―²–Β. –Ξ–Ψ―²―è –±―΄ –≤ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Η –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η:
–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Η–Ζ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –≤―΄–≤–Β–Μ–Η –≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β, –Α –ù–ê–Δ–û –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤―¹―ë –±–Μ–Η–Ε–Β –Η –±–Μ–Η–Ε–Β. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –≤ ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–±―É―¹–Β ¬Ϊ–£–Α―Ä―à–Α–≤–Α βÄ™ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ¬Μ –¥–≤―É―Ö―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Β –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β. –£ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Κ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É ―ç―²–Η–Φ –Ψ–Ω―Ä―è―²–Ϋ―΄–Β ―¹―²―é–Α―Ä–¥–Β―¹―¹―΄ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–Ζ―è―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Η –Ϋ–Α –Μ―é–±–Ψ–Ι –≤–Κ―É―¹ –Η –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –£―¹―ë –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―ë―²―¹―è –≤ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η. –ü―Ä–Η –Ω―è―²–Η―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Μ―ë―²–Β –Η–Ζ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Α –≤ –¦–Ψ―¹-–ê–Ϋ–¥–Ε–Β–Μ–Β―¹, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –≤ –ß–Η–Κ–Α–≥–Ψ (–Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –ù–Η–Α–≥–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Φ) ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹–Μ―É–≥–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ω–Α–Κ–Β―²–Η–Κ–Η ―¹ ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Β―΅–Β–Ϋ―é―à–Κ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α: –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, ¬Ϊ–±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≥―Ä―É–Ζ–Η–Κ-–Φ–Α―è―²–Ϋ–Η–Κ¬Μ ―ç―²―É ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅―ë―²–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ. –ê –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω–Μ–Α―²―É –Η –Ζ–Α –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―É―é.
–‰―²–Α–Κ, –Φ―΄ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ (–Ϋ–Α―à–Η –Μ―é–¥–Η –≤–Β–Ζ–¥–Β –Β―¹―²―¨) –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –£–€–ë –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä¬Μ. –‰ –Ϋ–Α–Φ, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨, ―²–Ψ –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Β―ë ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨. –ù–Ψ –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Η–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä–Η ―à–Μ–Α–≥–±–Α―É–Φ–Β –Ϋ–Α –≤―ä–Β–Ζ–¥–Β –£–€–ë, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Α–Φ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ–±―â–Α―é―â–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Η –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η –Φ–Β―¹―²–Α –Η–Φ–Β―é―² –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―²–Α–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―É―é ¬Ϊ–±―΄―²–Ψ–≤―É―Ö―É¬Μ.
–£―¹―ë –Ε–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄―²―¨ –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥―É–Φ–Κ–Β βÄ™ –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, –≥–Μ–Α–≤–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –≤ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨, ―²–Ψ ―è –Ψ―²―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―¹―¨ –Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η ¬Ϊ–†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä¬Μ. –ê –Ϋ–Α―΅–Ϋ―É ―¹ ―΅–Β–≥–ΨβÄΠ –ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –≥–¥–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Ψ–Φ―É –Ε–Β –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –Α –Ψ–Ϋ –Ε–Β –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –™–Ψ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –Η –Ω–Ψ-–Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ―É –Φ―ç―Ä, –Α –Ω–Ψ-―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―Ä–Β–Α–Μ–Η―è–Φ –Ψ–Ϋ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α. –ï―¹–Μ–Η –≤ –ü–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ ―¹ –î–Α–Ϋ―Ü–Η–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―³–Η, ―²–Ψ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ―É –¥–Α–Ε–Β –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ―É –ë–Ψ―Ä–Η―¹―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –ë―É―Ä–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É. –î–Α, –û–¥–Β―¹―¹–Α βÄî –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥! –ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –≤ –Γ–Η–Ϋ–≥–Α–Ω―É―Ä–Β, –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ß–Β–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ βÄî –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι?¬Μ –û–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ù–Β―², –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι!¬Μ –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―² ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η-–¥–Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ.
–‰―²–Α–Κ, –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤ ―³–Ψ–Ι–Β –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Η –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –±―É–¥―É―â–Η–Φ –Β―ë –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ βÄî –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –™―É―Ä–≤–Η―Ü–Β–Φ, ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―à―É ―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η: ¬Ϊ–Δ–Β–±–Β –±―΄, –≠–¥–Η–Κ, –±―΄―²―¨ –Φ―ç―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –ù–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²: ¬Ϊ–ü–Ψ –Ω―è―²–Ψ–Ι –≥―Ä–Α―³–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε―É¬Μ. –î–Α, –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β: –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ζ―è―²―΄–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ –≤ –Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β.
–ß―²–Ψ ―²–Α–Φ! –‰ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―΄. –Δ–Α–Κ, –Φ–Ψ―é –¥–Ψ―΅―¨, –ï–Μ–Β–Ϋ―É, –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –Β―ë –Α–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―É. –î–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, 26 –î–Η–ê–ü–¦, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, –≤―¹–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―¹―² –±–Β―Ä–±–Α–Ζ―΄ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –¦―è―Ö–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹―É, ―²–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Β ―Ä–Α―¹―΄ –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–£―΄ –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ –Κ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α¬Μ.
–ê ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è: –Ψ―²–Β―Ü βÄî –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Φ–Α–Φ–Α βÄî –î–Ψ–Φ–Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –ë–Α–±―É―à–Κ–Α –Ω–Ψ –Φ–Α–Φ–Β βÄ™ –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Α –‰―Ä–Η–Ϋ–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α βÄî –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è (―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Μ–Η ―²–Α–Κ–Α―è ―²–Η―²―É–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Α –î–Ψ–Ϋ―É!) –¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Κ–Α–Ζ–Α―΅–Κ–Α, –¥–Β–¥ βÄî –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι, –Β―â―ë –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ι ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Κ–Α―Ü–Α–Ω–Ψ–Φ¬Μ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―Ü–Β–Φ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η. –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö- ¬Ϊ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ –Ϋ–Α –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η.
–≠―²–Ψ –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Φ. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Η–Φ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―è –Η ―¹–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―à–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―à–Ψ–≤–Η–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α.
–ö–Α–Κ–Η–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β: –Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Β–≥–Η, ―Ö–Α–Ζ–Α―Ä―΄, ―²–Α―²–Α―Ä―΄, ―²―É―Ä–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Η–Ϋ–Ψ–≤–Β―Ä―Ü―΄. –ê 40-―²―΄―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ –®–≤–Β–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è –ö–Α―Ä–Μ–Α –ΞII? –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Β–≤–Ϋ―É―Ö–Α–Φ–Η –Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤–Β―¹–Ψ–Φ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –ù–Ψ―Ä–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―΄―²–Η―è (―΅–Β–Φ –Φ―΄ ―Ö―É–Ε–Β –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, ―²–Α–Φ –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 250 ―²―΄―¹―è―΅ ¬Ϊ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Ψ–≤¬Μ). –ï―¹–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Β–Ψ–Ϋ, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ―à–Κ―Ä―è–±–Ψ―²―¨, ―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―²–Α―²–Α―Ä–Η–Ϋ. –ê –Β―¹–Μ–Η ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―Ü–ΑβÄΠ, ―²–Ψ –±―É–¥–Β―², –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Β. –ê ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β: ―Ö–≤–Α―²–Η―² –¥―É―Ä―¨―é –Φ–Α―è―²―¨―¹―è! –£―¹–Β –Φ―΄, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤–Α―Ä–Η–Φ―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Μ–Β.
–€―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è: –Ϋ–Α ―Ü–≤–Β―² –Κ–Ψ–Ε–Η, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ –≥–Μ–Α–Ζ, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ―É ―¹–Κ―É–Μ –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, –Κ―²–Ψ –Η –Κ–Α–Κ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² ¬Ϊ―ĬΜ. –î–Β–≤–Η–Ζ–Ψ–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –≤ 2004 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ζ―è―²–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –•–Α–Κ–Α –‰–≤ –ö―É―¹―²–Ψ: ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄¬Μ. –‰ –Β―â―ë –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α: ¬Ϊ–£―¹–Β –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η –Λ–Μ–Α–≥–Η –Κ –Ϋ–Α–Φ!¬Μ –ë―É–¥–Β―² ―²–Α–Κ –Ε–Β –Κ –Φ–Β―¹―²―É: –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Α, –û―Ä–¥–Β–Ϋ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –½–≤–Β–Ζ–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –≠―²–Η –Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –ù–Α―à–Β–Ι –û–¥–Β―¹―¹―΄ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Α–Φ 41-–≥–Ψ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥-–™–Β―Ä–Ψ–Ι.
–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹―¹―É–¥―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β-–Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –î–Μ―è –ü–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Ι, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―΅–Η―²–Α―é―â–Β–Ι –Ω–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Ψ–Ϋ–Ψ –Η ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Η―² ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ―è–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ.
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é –Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ―É―é ―²–Β–Φ―É, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―à–Η―Ä―¨. –£―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –½–Β–Φ–Μ―é –û–±–Β―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Α –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Ψ–Ϋ–Η, –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –û–±–Β―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β.
–ù–Ψ, –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Η ―¹―É–¥–Η –Η –Ϋ–Β ―Ä―è–¥–Η, ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä–Β–≤–Ψ –Ψ–Κ–Ψ¬Μ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ζ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Ω―è―²–Ψ–Ι –≥―Ä–Α―³–Ψ–Ι –Α–Ϋ–Κ–Β―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –ü–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –•–≤–Α–Ϋ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―ë–≤―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―é–Φ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Η, –Β–≥–Ψ ―²―É―² –Ε–Β –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Β–±–Β–Μ―è¬Μ******. –‰, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ: ¬Ϊ–Γ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨: ¬Ϊ–½–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É―ë―²–Β, –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –€–Α–Ϋ–Β–≤–Η―΅!¬Μ - –· ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―è –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ¬Μ. –ï―¹–Μ–Η ―¹ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –•–≤–Α–Ϋ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –≤―¹―ë –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨, ―²–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Β―é –°―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β: –Β–≥–Ψ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Β–≤―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä –≠–Μ―¨–¥–Α―Ä –†–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ–Α –†–Ε–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–™―É―¹–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α¬Μ.
–‰ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ ―¹―Ö–Β–Φ–Β. –î–≤―É–Φ –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β–±–Β–≥–Α–Β―² –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Κ–≤–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ε–Β–Μ―²–Ψ―Ä–Ψ―²―΄–Φ–Η ―Ü―΄–Ω–Μ―è―²–Α–Φ–Η. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –€–Η–¥―É―ç–Ι, –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –Γ–®–ê, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ ―³–Η–Μ―ë―Ä―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨, –¥–Ε–Η–Ω –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α–Μ―¨–±–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, ―²–Ψ –Ϋ–Α―à, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü―΄–Ω–Μ―ë–Ϋ–Κ–Α. –ù–Α –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²: ¬Ϊ–î–Α, –Φ–Α–Μ–Ψ –Μ–Η ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―É–Φ–Β¬Μ. –Δ–Α–Κ, ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Ω–Ψ–Ε–Η―â–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Η–Μ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –î–Α–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹–≤–Β―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Α―Ä―è–Μ –Μ―é–¥―è–Φ –Ω―É―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –¥―Ä–Β–Φ―É―΅–Β–≥–Ψ –Μ–Β―¹–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–≤–Β―Ä―Ö–±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Β–≤―Ä–Β―è–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι.
–î―Ä―É–≥–Η–Φ ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è. –Δ–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ë―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Δ–Β―Ö–Θ–Ω―Ä`–Α –Δ–û–Λ –ë–Ψ―Ä―â–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―é –Ω–Ψ –≠–€–ß –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –¦–Η–≤―à–Η―Ü―É, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―ç―²–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Μ―é–¥–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η. –£–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ!!!
–ê ―¹ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¦–Η–≤―à–Η―Ü–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–±–¥–Β–Μ–Η¬Μ. –£ ―¹–≤–Ψ–Η –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –•–Β–Ϋ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. 1942 –≥–Ψ–¥. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –™–Β–Μ–Β–Ϋ–¥–Ε–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –™–Β–Μ–Β–Ϋ–¥–Ε–Η–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –¥–Μ―è ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –•–Β–Ϋ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι –£–Β―Ä–Ψ–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –©-203, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-V –±―΄–Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –¦–Η–≤―à–Η―Ü, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –•–Β–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –†–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü βÄî –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ βÄî –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1939-–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α.
–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Η–Φ–Β―é―² ―¹–≤–Ψ―é –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ―É―é, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é. –Γ–Α–Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―Ü–Α –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –¥–Μ―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –°–Ε–Ϋ―΄―Ö –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Α ―²―É–¥–Α –Η–Ζ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α ―Ü–≤–Β―² –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹―²–≤–Α. –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö βÄî –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―É –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –™–Β–Μ–Β–Ϋ–¥–Ε–Η–Κ–Α, –≥–¥–Β –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Η, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü―΄ –Η–Ζ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –û―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η ―²–Α–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Ζ–Α―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―É –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η –ë―Ä―é―Ö–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö: ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è, –≤―Ä–Α―΅–Η, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α. –•–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä―ë–Κ―¹―è –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η. –ù–Ψ –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ―É –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É, ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―é –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤–Ζ―è–Μ –Β–≥–Ψ –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η―é. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―à―²―Ä–Η―Ö–Ψ–≤ ¬Ϊ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι¬Μ: –Μ–Ψ–¥–Κ―É –©-203 (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –® ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Β–Φ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–Ϋ–Ϋ–Ψ–Κ–Β–Ϋ―²–Η–Β–≤–Η―΅) ―¹ –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η. –û–Ϋ–Α –Ψ―²–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α. –ü–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Η–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Η –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ê ―¹–Α–Φ–Α ―É―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Γ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê–Ϋ–≥–Η–Ϋ–Κ–Η–Ϋ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –≤ –ü–Ψ―²–Η –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ –£–Β―Ä―É –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É –Η –•–Β–Ϋ―éβÄΠ –Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –£―¹―é –•–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–£–Ψ―² ―è –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ –Κ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α. –ê –Κ –Η–¥–Β–Β –Β–≥–Ψ, –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Β –Η–Φ―è ¬Ϊ–†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä¬Μ. –ß–Β―²―΄―Ä―ë―Ö–Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ξ–Α–Ι–Φ–Α–Ϋ –†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä βÄ™ –Ψ―²–Β―Ü –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨ –≤–Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α. –Ξ–Α–Ι–Φ–Α–Ϋ –†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Β–≤―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –€–Α–Κ–Ψ–≤ –€–Α–Ζ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι (–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η). –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²―¨―è –†―΄–Κ–Η, ... –Β–Φ―É ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, ―²–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ –Β–≤―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é, ―²–Ψ –Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü―É –Η–Ζ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η,
–ï―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ - –†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Α ―¹ –≤–Η–Ζ–Η―²–Ψ–Φ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É –ö–Α–Ϋ–Α–¥―΄ –™–Α–Μ–Η―³–Α–Κ―¹, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –£–€–ë –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤, ―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É –ö–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –≠―²–Ψ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Γ–Η–Μ–Α–Φ–Η –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–®–ê –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É (–Η–Φ―è―Ä–Β–Κ): ¬Ϊ–· –Ε–Β –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –£–Α―à–Β–Φ―É –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―é –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨¬Μ. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Β –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –ü–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Ψ–Φ –Γ–®–ê –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É. –Δ–Α–Φ –Β–Φ―É –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–¦–Ψ―¹-–ê–Ϋ–¥–Ε–Β–Μ–Β―¹¬Μ –Κ–Α–Κ ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η, ―²–Α–Κ –Η –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Ϋ–Η ―à–Α–≥―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ö–Α–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α: ¬Ϊ–†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä –±―΄ –≤ –≥―Ä–Ψ–±―É –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤, ―΅―²–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β¬Μ. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η - –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²―΄: –Β–≤―Ä–Β–Η –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―É–Ε–Β –Μ–Β―² ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–¥–Β–Μ―΄ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Α –Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α―é―² –Η–Ζ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²–Α―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α ¬Ϊ–î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ–Α-–£―ç–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η―é –≤ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ–Β ―¹ –Γ–®–ê.
–ê ―¹–Α–Φ –†–Η–Κ–Κ–Ψ–≤–Β―Ä –Β―â―ë –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―²―É―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Η–Ϋ–Κ–Ψ–≥–Ϋ–Η―²–Ψ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Β–Φ―É ―²–Α–Κ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Φ–Μ―é―â–Β–Β –Ψ–Κ–Ψ¬Μ ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―è―²–Α–Φ –Η ―¹ –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α―è –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η. –¦―é–±–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―É―Ä–Η―¹―²–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―ë –Ω–Α―Ä–Ψ–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―΄, –Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –£ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –±–Α–Μ–Β―²–Β, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ, –Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ϋ - ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ϋ –≤ –Φ–Η―Ä–Β.
–ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―Ä–Β–Φ–Α―Ä–Κ–Α –¥–Μ―è –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―² ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β, –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α –Μ―É–Ε–Α–Ι–Κ–Β, –Φ–Η–Μ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ―è―¹–Κ–Ψ–Ι. –≠―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ–Α –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Γ–Η–Μ–Α–Φ–Η.
–‰–Φ–Β―è ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ: –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –Μ–Η ―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι ―è―¹–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α. –Γ–Μ―É―΅–Α–Ι ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Ι βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤ - ―Ä–Β–¥―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –¥―É―à–Η –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û –Ϋ―ë–Φ –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―à–Β―³―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Ψ–Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–≠―²–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―è –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –±―É–¥―É―΅–Η –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α. –· ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Β ¬Ϊ–û―Ö―Ä–Α–Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –¥–Β―²―¹―²–≤–Α¬Μ. –ü―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Ι ―à–Β―³―¹–Κ–Ψ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―². –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ε–Β –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ ¬Ϊ–€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Β –±―΄–Μ–Ψ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω―è―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―²–Ψ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ 40 –≤―¹―ë ―²–Β―Ö –Ε–Β –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
|
|
42. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤
| |
–ê –ù –û –ù –Γ
–ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –½–≤–Β–Ζ–¥–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–ΑβÄΠ –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –Η―Ö, –≤―¹―ë –Ε–Β –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥–Α –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –±―É–¥–Β―² ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ.
–ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤
–‰ –≤–Ψ―², –Κ–Α–Κ ―è –¥–Ψ―à―ë–Μ –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Α―΅–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Ι ¬Ϊ–ö–¦–Θ–ë –ê–î–€–‰–†–ê–¦–û–£¬Μ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―²¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α¬Μ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 100-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η 50-–Μ–Β―²–Η―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –ù–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄.
–™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄¬Μ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–£ –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –≤ –Α–Μ―³–Α–≤–Η―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α –≤―¹―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–‰ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –ö–Μ―É–± –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ –≤ –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β ―¹–≤–Ψ―ë –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Η–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β (―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Φ) –Κ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ –Η ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Α–Φ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ψ–± –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Η―Ö –≤ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–¥―Ä–Β―¹.
–ü–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Ι: 103105, –≥. –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, –ë.–ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä., –¥–Ψ–Φ 6. –ö–Μ―É–± –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤.
E - mail: clubadmiral@mail.ru –Η–Μ–Η admiral_barsukov@mail.ru
–ö–Μ―É–± –±―É–¥–Β―² –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ –Ζ–Α –≤―¹―ë ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –ö–Μ―É–±―É. –‰ –ö–Μ―É–±, –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―² ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è.
–Δ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β –¥–≤–Α ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –‰ –≤ ―ç―²–Η―Ö –Ψ–±–Ψ–Η―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö –Β―¹―²―¨ –Η –Φ–Ψ―è ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Μ―³–Α–≤–Η―²–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Η―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η. –≠―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² βÄ™ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α–Β―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β–Φ–Ψ–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Β.
–Θ–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Φ–Ψ–Η ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü―΄, ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―² –Φ–Β–Ϋ―è βÄ™ –Φ–Ψ―ë –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ–Φ―É.
–£–Ψ―²βÄΠ–Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α 42 –™–Μ–Α–≤–Α βÄ™ ―¹ –Ψ―²–≤–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄.
–Θ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Ψ–Ι ―¹–Α–Ι―² –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β –Η –Μ–Η―¹―²–Α―é―â–Η―Ö (–Ϋ–Β –Ω–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ!) –Φ–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –Ψ–±–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û―Ä–¥–Β–Ϋ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ (–Η–Φ–Β–Ϋ―É–Β–Φ―΄–Ι –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ¬Μ) –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―². –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –™–Μ–Α–≤–Β ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –≤ ―²–Β–Ϋ–Η –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η.
–£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β ―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 245 –û–î–†–ü–¦ (–û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ). –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α–Β―² ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä―É―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è.
–ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β (–Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ) –±―΄–Μ–Ψ –¥–≤–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η: –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α―è –Η –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―à―²–Α–±–Α–Φ–Η –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α. –û―² –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η βÄ™ –Γ–ö–†,―Ä―΄, –Δ―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄ (–Ϋ–Β―΅–Α―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η), –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ 30 –≤―΄–Φ–Ω–Β–Μ–Ψ–≤ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Ϋ–Ψ–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ ¬Ϊ–ë–Β―΅–Β–≤–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ. –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –Δ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –≤ –Φ–Ψ–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ï―¹–Μ–Η –Η ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α―è –Η ―²–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –¥–Α –Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α 40-―²―΄―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –Η –Γ―²–Α―Ä–€–Ψ―Ä–ù–Α―΅–Α –±―É―Ö―²―΄ ¬Ϊ–Γ–Β–Μ―¨–¥–Β–≤–Α―è¬Μ.
–ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Μ–Ψ ―à―²–Α–±―΄ –ë―Ä–Η–≥–Α–¥ –Η –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι. –£–Β–¥―¨ ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ. –ü–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤―É –Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–Φ–Ψ ―¹ –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Β–Ι. –≠―²–Ψ –ë–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Α―è –±–Α–Ζ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ–Η –Η ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Α–Φ–Η, –≥–Α―Ä–Α–Ε–Ψ–Φ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ–Α―è –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –®―²–Α–± –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ü–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β.
–Γ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι―¹―è –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², ―É–Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―é―² –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Η–Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –¥–Α–Ε–Β, –Φ–Β–Ϋ―è―é―² –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―à–Β―¹―²―¨, –¥–Β–≤―è―²―¨ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ϋ–Β–Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ/―¹ –Η –Ϋ–Β –≤ –Η–¥–Β–Α–Μ–Β ―¹ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι. –î–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Β―â―ë –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É―²–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α. –£―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Α–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –≤–Μ–Β―΅―ë―² –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ζ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ. –ê –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –≤ –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ι –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é.
–ï―â―ë –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –ù–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–≤―΅–Β–≥–Α. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –û–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–≤ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Κ―É–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β βÄ™ –Η–¥―ë―² ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–ù–Ψ–Β–≤–Α –ö–Ψ–≤―΅–Β–≥–Α¬Μ. –£―¹–Β–≤―΄―à–Ϋ–Β–Φ―É –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―² –Ψ –Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Β. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄, –£―¹–Β–≤―΄―à–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ü―É―¹–Κ–Α–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―²–Α–Φ –Η –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ―è―²¬Μ. –ß–Β–Φ –Η –±―΄–Μ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―²–Β–Φ―΄. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―², –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –£―¹―²–Α–≤–Κ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†―É–Μ―é–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 15 –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: ¬Ϊ–ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―¹―ë –ë–ß-V¬Μ. –‰ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –ü–¦ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²: ¬Ϊ–Γ―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨, –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨¬Μ.
–‰―²–Α–Κ, –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Η–Φ–Β―è –Ψ–Ω―΄―²βÄΠ, –Ζ–Α―à–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―², ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, ―è –≤―¹―²―É–Ω–Α–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨―é –≤ –£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β.
–‰ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –≤―¹–Β, –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä―΄ βÄ™ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η. –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–Ω―É―²–Α―Ü–Η–Η, ―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: ¬Ϊ–ë―É–¥–Β–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―ç―Ö–Ψ–Μ–Ψ―²―É, –Κ–Α–Κ –†–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –½–Α–Ι―Ü–Β–≤ –Ψ―²―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –û–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―² –Ω―Ä–Η –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β¬Μ.
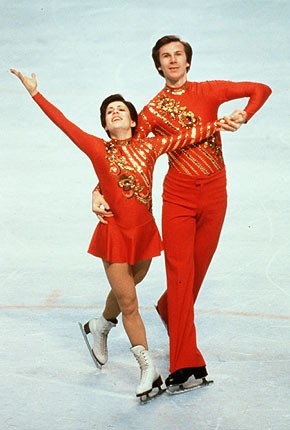
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è ―è –≤–≤―ë–Μ ―¹–≤–Ψ―ë Know How –≤ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ ―²–Β―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²―è―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β.
Know How –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β ¬Ϊ–ë–Β―΅–Β–≤–Η–Ϋ–Κ–Α¬Μ, –≥–¥–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –±―É―Ö―²―΄ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ βÄ™ –±–Μ–Α–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Μ–Α―è –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α–Φ–Η –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è.
–¦–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―² –Η –≤―¹–Β ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―¹–Ω–Β―à–Κ–Η, –±–Β–Ζ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –‰ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ!!! –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―É―Ö―²―΄ ¬Ϊ–ë–Β―΅–Β–≤–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ βÄ™ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η ―Ä―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Κ–Α–Φ, –Α –¥–Ϋ―ë–Φ –Κ―Ä–Α–±―΄ –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Β.
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ ―¹―É―²–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α βÄ™ –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–ù–Ψ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α. –ß―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–ß–ü¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω.II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –·–Ϋ―΅―É―Ä–Κ–Η–Ϋ.
–‰ ―²–Α–ΚβÄΠ, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Η –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Β―²–Α–Μ–Β–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ―² –Ε–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –û―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–±―΄–Μ–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Η –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―². –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –™–Μ–Α–≤ –Γ–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α ―è –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β βÄ™ –Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, ―è ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ―â―É―â–Α–Μ. –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Η―΅–Β–Ι–Ϋ–Α―è –Η –±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Η –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –‰ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Η–¥―É―â–Β–Ι –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ, –Ϋ–Β–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ. –ê –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―², –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι ―¹ –ß–Β–≤–Β―ç―¹–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Η –±―΄–Μ –Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ –Η–Φ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ. –û―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Η–Ζ―ä―è–≤–Μ―è–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Η ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Α–Φ―è―²―É―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Η–Ι, –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ü–Η–Κ―É–Μ―¨ –Η –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α. –Θ–¥–Β–Μ―è–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―Ä–Ψ–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β.
–· –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―é –Η ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ βÄ™ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―è ―É–≤–Μ―ë–Κ―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η.
–î–Α, ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β―¹―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α, –¥–Α, –Β―â―ë –Η ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ, ―².–Β. –Ϋ–Α –Ϋ–Η―΅–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―¹ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –¥–Ψ―à–Μ–Η –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤βÄΠ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β¬Μ ―¹–≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ (–±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ), –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –‰ –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ζ–Α―â–Η―²―É –≤ ―à―²–Α–±–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –‰ –Ζ–Α―²–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―É―²–Η. –ë―΄–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 10 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –£.–£.
–Δ–Ψ –Β―¹―²―¨, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―¹–Α–Φ–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –· ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Β–Ι –≤–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―é. –ù–Ψ –Η –±―΄―²―¨ –Κ–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α―é.
–‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄―²―¨ (–Ω–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―É –Ω–Α–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –±―É―²–Β―Ä–±―Ä–Ψ–¥–Α) –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Γ–Ψ–≤–Β―² –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –‰, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―²–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ¬Ϊ–ß–ü¬Μ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ψ–± –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β –Β–≥–Ψ. –ù–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―² –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ–± –Α–Ϋ–Ϋ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –ü–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η. –Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –≤ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α―Ö –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α. –ß―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –ë―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β βÄ™ –ü–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥ ―¹―É–Κ–Ϋ–Ψ¬Μ. –ß―²–Ψ –Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―²–Α–Φ. –î―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α¬Μ, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ϋ–Β―². –£―¹―ë –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ―΄ –Η –Ε–Η–≤―΄, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄, –≤–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―É–Ε–Β –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α.
–ê ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―è.
P.S.
–ü–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ψ―²–Ζ―΄–≤―΄, –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Η –Η –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Η, βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Α–Η-–≤–Α―é―² –Η –Ω―Ä–Η–¥–Α―é―² –Φ–Ϋ–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ ―²―É –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―É―é ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É.
–Δ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ψ―² –‰.–Γ. –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ–Α. –ï–≥–Ψ –Γ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ –ù–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è 42-–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄ –Η –¥–Α–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Β―ë ―ç–Ω–Η–≥―Ä–Α―³–Ψ–Φ βÄî ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Ϋ―΄ –€–Α–¥―Ä–Η–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –î–≤–Ψ―Ä–Α¬Μ.
–ù–Ψ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Β –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ–Β.
–ü–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨, –ü–Ψ―ç―², –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –û–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ―²―ä-–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –£―¹–Β―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–≤. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö, –Κ―²–Ψ –Φ–Ψ–≥ –≤–Ψ―¹―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ―É ―Ä–Ψ–¥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –†–Ψ–¥–Α.
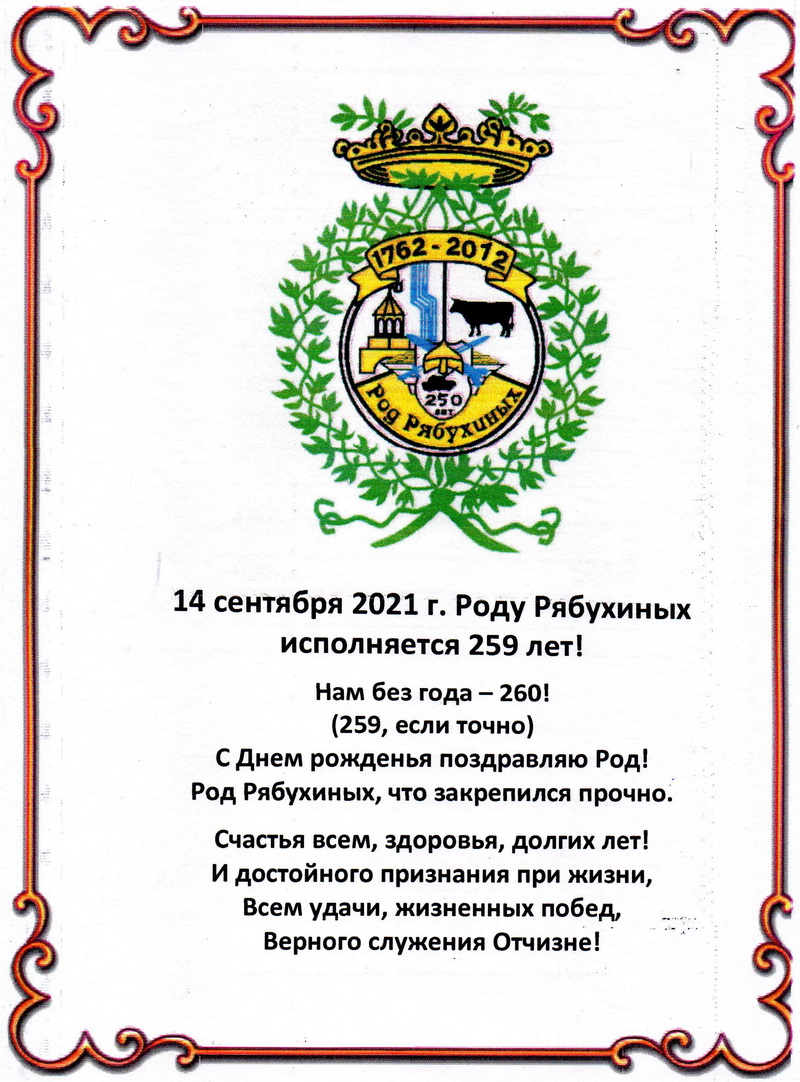
–ö–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ, –¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ-―¹―²―è–Φ–Η, –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι (–Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η) –≤―¹–Β ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Ϋ―΄ –€–Α–¥―Ä–Η–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –î–≤–Ψ―Ä–Α¬Μ.
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Β–¥―É―è ―¹ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ, ―è –¥–Β–Μ–Α―é –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄-―²–Η―è.
–ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–Ε―É –Κ ―¹―É―²–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α. –‰―²–Α–Κ, –Ψ―²–Ζ―΄–≤ –‰.–Γ. –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ–Α. –ü―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä―è―è ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –Η ―¹―²–Η―Ö–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–¥―¹―²–Α―²―¨ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ―¹―²–Η―à–Η―é –™–Β―Ä–Ψ―è-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –‰.–‰. –Λ–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α.
–™–Β―Ä–Ψ―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ
–ü –û –Γ –£ –· –© –ê –ï –Δ –Γ –·
–ù–Β―² –≤―΄―à–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, ―΅–Β–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Α–Φ–Η.
–‰ –Ϋ–Β―² –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ βÄî –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Φ–Β–Μ–Β–Ι.
–‰ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β –Ω–Ψ―΅–≤―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η,
–ß–Β–Φ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –‰.–‰. –Λ–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅

–ê–ü–¦ ¬Ϊ–î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –î–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ
–ë–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–¥―è―² –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―΄ –½–Β–Φ–Μ–Η ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄,
–½–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ψ―² –Ψ―²―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –≤–¥–Α–Μ–Η,
–ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄,
–ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄ ―Ä―É–Μ–Η.
–€–Η―Ä ―à–Α–≥–Α–Β―² –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥ –Η ―Ä–Α―¹―²–Β―² –≤–Β–Κ –Ψ―² –≤–Β–Κ–Α,
–Γ –€–Α–≥–Β–Μ–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ, –Κ–Α―Ä–Α–≤–Β–Μ–Μ,
–£―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Φ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α,
–£–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Α –Φ–Β―΅―²–Α –≤ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―΅, –ê–ü–¦!
–ù–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄ –Η–Φ –Μ―é–±―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―΅–Η–Ϋ―΄,
–‰ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Β―¹―¹,
–î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄,
–ß―²–Ψ–±―΄ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β ―¹–Η―è–Μ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–±–Β―¹.
–ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―à―¨―¹―è ―²―΄ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α,
–£–Η–¥–Η―à―¨ –±–Β―Ä–Β–≥ –Η ―΅–Α–Β–Κ, –Η –Ω–Η―Ä―¹ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι,
–ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ –≤―¹―é –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ―¨―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É
–‰ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Α –Ζ–Α –Φ–Η―Ä –Η –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι!
–™–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ –‰.–Γ.
–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ι –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅!
–Γ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –≤–Α―à―É –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –≥–Μ–Α–≤―É. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α! –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –±―΄–≤―à–Β–Φ―É ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄ –≤―¹–Β ―²–Α–Ι–Ϋ―΄ "–€–Α–¥―Ä–Η–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Α" –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Κ–Α―¹–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –€–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –ß–£–Γ–Α (–Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Κ–Α–Ϋ-–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η). –£ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β –≤–Α―à–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –≤–Α–Φ, ―è –Β―â–Β –≥–Μ―É–±–Ε–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―é―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Θ–¥–Α―΅–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι!
–Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ - –‰.–Γ.
¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Ϋ―΄ –€–Α–¥―Ä–Η–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –î–≤–Ψ―Ä–Α¬Μ
–ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –Η–Φ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Η–Κ–Α –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η ―ç―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ε–Α–Φ–Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄. –ê –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≤–Η–¥―É ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―΄-―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η―Ü ―²–Β–Μ–Β–Φ–Ψ―¹―²–Α ―¹ –½–Α―Ä―É–±–Β–Ε―¨–Β–Φ: ¬Ϊ–Γ–Β–Κ―¹–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―²¬Μ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ ―²–Ψ-–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Φ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Η –Φ–Β―Ä–Η–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Μ–Η–Κ. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ψ―² ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η¬Μ 20βÄ™―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Κ–Α―΅–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –Ε―ë―¹―²–Κ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Ω―É―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―É¬Μ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –ü–¦ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Ε–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥-–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –±―Ä–Α–Κ–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Η –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨–±–Α –Ω–Ψ –Μ―é–±–≤–Η. –·―Ä-–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É βÄ™ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ ¬Ϊ–ΓβÄ™46¬Μ –≠.–ê. –™–Β–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹, –¥–Α –Η –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä―É ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤―Ä―É―΅―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ ¬Ϊ–½–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β¬Μ. –ù–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤―Ä―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ 23 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è βÄ™βÄ™ –≤ –î–Β–Ϋ―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–ΨβÄ™–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ë―Ä–Α–Κ–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Η―à–Β―²―¹―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –Φ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–Β–Ι―³–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α, –Κ–Α–Κ, –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, –Η –ü–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Γ–Γ–† –Ψ –ü―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –‰ ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α–Μ―¹―è. –€–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η ―Ö―É–Ε–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –±―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ζ–Α-―â–Η―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–Δ–Β–Φ―É –ß–£–Γ–Α –Η ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Ϋ –€–Α–¥―Ä–Η–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –î–≤–Ψ―Ä–Α¬Μ, –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β–Φ―É―é –‰.–Γ. –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η-–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Α –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―¹-–Ϋ―É―¹―¨ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–€–Α–¥―Ä–Η–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Α–Ι–Ϋ―΄¬Μ, –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ, ―É –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –½–Ψ―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–ö―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤-–Ϋ―΄–Ι –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β¬Μ.
–‰―²–Α–Κ, –ß–£–Γ―΄. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―΄ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι, –ê―Ä–Φ–Η–Ι, –™―Ä―É–Ω–Ω―΄ –£–Ψ–Ι―¹–Κ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –ö–Ψ-–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –ß–Μ–Β–Ϋ―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤ βÄ™ –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –®―²–Α–±–Α –¥–Ψ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Δ―΄–Μ–Α. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –ß–Μ–Β–Ϋ―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―² –Η–Φ–Β–Ϋ―É―é―²―¹―è –≤ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Η –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ü–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤ –Ψ–±–Η―Ö–Ψ–¥–Β, –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―², –Κ–Α–Κ –ß–£–Γ. –½–¥–Β―¹―¨ –±–Β–Ζ ―¹–Α―Ä–Κ–Α–Ζ–Φ–Α, –Ϋ―É –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α–Φ―΄–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ–Η―¹―²―΄–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤¬Μ.
–ß–£–Γ―΄ βÄ™ –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Ψ―² –Ω–Μ–Ψ―²–Η, –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –Ψ―² –Κ―Ä–Ψ–≤–Η βÄ™ ¬Ϊ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤¬Μ –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹–Β–Κ-―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Ι –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≤. –Κ―Ä–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, –Π–ö –Ϋ–Α―Ü–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―Ä―²–Η–Ι. –ë–Ψ―¹―¹―΄ –Η–Ζ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Μ–Α-―²―É―Ä―΄ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―¨–≥–Ψ―²–Α–Φ–Η –Η –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é. –ï–Ε–Β–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Α―è –≤―΄–¥–Α―΅–Α –¥–Β–Ϋ–Β–≥ (¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²―΄¬Μ), ―¹―É–Φ–Φ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η, –Α ―²–Ψ –Η –≤ –Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Μ–Α –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É –Η –Ϋ–Β ―É―΅–Η-―²―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η ―É–Ω–Μ–Α―²–Β –Ω–Α―Ä―²–≤–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤, –¦–Β―΅―¹–Α–Ϋ―É–Ω―Ä, ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄, ¬Ϊ–≤–Β―Ä―²―É―à–Κ–Η¬Μ. –‰ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–ΒβÄΠ. –≠―²–Η –±–Α―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤―É. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Θ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–¥–Β–Κ―¹–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Ω–Α―Ä―²–Η―é. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Α―è―¹―è –≤–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Α―è –≤–Β―Ä―Ö―É―à–Κ–Α –Η ―É–≥―Ä–Ψ–±–Η–Μ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ.
–ë―΄–Μ–Η, –Κ―²–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Ψ―¹―²―¨―é. –¦―¨–≥–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄. –ù–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―è―Ä–Κ–Η―Ö ―Ä–Α―²–Ψ-–±–Ψ―Ä―Ü–Β–≤ ―É–Φ–Β―Ä –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –‰ –Ξ―Ä―É―â―ë–≤, –¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –¥–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Μ―¨–≥–Ψ―²―΄ –±–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―è ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―Ü–Α ―¹ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α–Φ–Η, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ: ¬Ϊ–ù–Β ―è. –ï―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―²―΄―¹―è―΅―É ―Ä–Α–Ζ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–¥–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ξ―Ä―É―â―ë–≤, –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Β–Φ –Β–Φ―É.
|
|
43. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Κ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ–Α
| |
–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –™–Η–Φ–Ϋ–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±–Η―²–≤―΄ –Ζ–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄―É

1 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 2021 –≥. –Φ–Ϋ–Ψ―é, –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ―΄–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ ―¹―²–Η―Ö–Η, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β 80-–Μ–Β―²–Η―é –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ω–Ψ–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι (5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1941–≥.) –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Α βÄ™ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ζ–Α–Φ.–Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–½–ê–û –≥.–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α.

–ù–Α ―³–Ψ―²–Ψ βÄ™ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –±―Ä–Α―²―¨―è βÄ™ –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ―΄ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Η –‰–≤–Α–Ϋ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Η, 1983–≥.
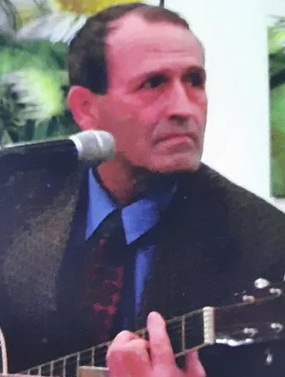
–î–Β–Ϋ–Η―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ βÄ™ –Α–≤―²–Ψ―Ä –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨ –™–Η–Φ–Ϋ–Α.
–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –î–Β–Ϋ–Η―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 7 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1950 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≥. –ë–Ψ–≥–Ψ–¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ –Ξ–Α―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –£–Β–¥―É―â–Α―è ―²–Β–Φ–Α –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Η - –Μ―é–±–Ψ–≤―¨: –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ, –¥–Β―²―è–Φ.
5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2021 –≥.

–™–Η–Φ–Ϋ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±–Η―²–≤―΄ –Ζ–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―É
–½–Α–Η–Ϋ–¥–Β–≤–Β–Μ―΄–Β ―à―²―΄–Κ–Η
–£–≥―Ä―΄–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ –Ϋ–Α–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ―é,
–‰ ―à–Μ–Η ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Η,
–ß―²–Ψ–± –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ –Β―ë ―¹–Ψ–±–Ψ―é.
–€–Β–Μ–Α –Φ–Β―²–Β–Μ―¨ –Η ―¹–Ϋ–Β–≥ –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ,
–½–Α –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α ―¹―²–Η―Ö–Η―è,
–£―Ä–Α–≥–Ψ–≤ ―¹–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―è –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ,
–ù–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, –†–Ψ―¹―¹–Η―è!
–ü―Ä–Η–Ω–Β–≤:
–ü―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤ –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ–Ψ–≤,
–£―Ä–Α–≥ –Ϋ–Β―¹ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Η ―É―²―Ä–Α―²―΄,
–‰ –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ –±–Η–Μ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤,
–ë–Β–Μ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, –ö–Α―²―É–Κ–Ψ–≤,
–ö–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Η―¹―² –Μ–Η―Ö–Ψ–Ι –î–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä!
–ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ω–Α―Ä–Α–¥, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α,
–‰ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤ –±–Ψ–Ι –Ω–Ψ―à–Μ–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄,
–ü–Ψ–¥ –¦–Ψ–±–Ϋ–Β–Ι, –ö―Ä―é–Κ–Ψ–≤–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α
–ë―΄–Μ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤―Ä–Α–≥ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²―΄–Ι.
–ù–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α –≤―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α,
–Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι,
–™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α-
–ü–Α–Ϋ―³–Η–Μ–Ψ–≤, –™―É–¥–Ζ―¨ –Η –†–Ψ–Κ–Ψ―¹―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι!
–ü―Ä–Η–Ω–Β–≤.
–€–Η–Ϋ―É–Μ–Ψ 80 –Μ–Β―²,
–ù–Ψ –Β―â–Β –Ε–Η–≤―΄ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄,
–û–Ϋ–Η ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β–¥,
–Γ–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄.
–€―΄ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Κ–Μ–Α–Ϋ―è–Β–Φ―¹―è –£–Α–Φ,
–£–Α–Φ, ―É–±–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ―é,
–‰ ―²–Β–Φ –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Α–Φ,
–ß―²–Ψ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ―é!
–ü―Ä–Η–Ω–Β–≤.
–ê–≤―²–Ψ―Ä ―¹–Μ–Ψ–≤ βÄ™ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ 1-–Ι –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι
–Δ–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –‰–≤–Α–Ϋ –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ
 –™–Η–Φ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ 3 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2021 –≥. –Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―΅–Α―²–Β –≤ –£–Α―Ü–Α–Ω–Β –≤ 08.38
–™–Η–Φ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ 3 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2021 –≥. –Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―΅–Α―²–Β –≤ –£–Α―Ü–Α–Ω–Β –≤ 08.38
–½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ ―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –Γ–ù–™ –Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε―¨―è.

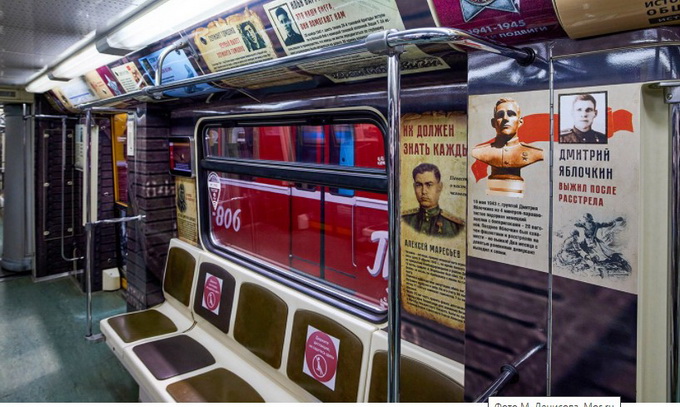
–£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Β –Β―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Η ―¹―²–Η―Ö–Η –Η –Ζ–≤―É―΅–Η―² ¬Ϊ–™–Η–Φ–Ϋ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±–Η―²–≤―΄ –Ζ–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―ɬΜ

–€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –‰–≤–Α–Ϋ –†―è–±―É―Ö–Η–Ϋ.
|
|
44. –ê–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Φ―΄―¹–Μ–Α –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨
| |
–î–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ψ–±―ä―ë–Φ―É –Ϋ–Β ―²―è–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –™–Μ–Α–≤―É –¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ–ΑβÄΠ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ―É –Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―².
–£ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–≥―É –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―è ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η–Β.
–£ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Α―Ö, –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―è –≤ –Ϋ–Η―Ö –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―à–Η–±–Κ–Η ―è –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ―¹―²–Η―à–Η–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ–Α¬Μ, –≥–Μ–Α–≤–Α 3, ―¹―²–Η―Ö –Ξ–ΞVIII:
–ö–Α–Κ ―É―¹―² ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―΄―Ö –±–Β–Ζ ―É–Μ―΄–±–Κ–Η,
–ë–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―à–Η–±–Κ–Η
–· ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―΅–Η –Ϋ–Β –Μ―é–±–Μ―é.
–£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ-–Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –£–€–Λ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Η –€–û –Γ–Γ–Γ–† (1989-1991–≥–≥) –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¨–Κ–Ψ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―Ö, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ...―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Β –±–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―é―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–ΑβÄΠ¬Μ
–ù―É, –Κ–Α–Κ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.
–≠–¥–Η―² –ü–Η–Α―³ βÄ™ –Μ―é–±–Η–Φ–Η―Ü–Α –ü–Α―Ä–Η–Ε–Α, –¥–Α –Η –≤―¹–Β–Ι –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―², –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α ―²–Β–Κ―¹―²―΄ –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ ―¹ –Ψ―Ä―³–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ–Η.
|
"–€–Α―Ä―¹–Β–Μ―¨–Β–Ζ–Α"
–™–Η–Φ–Ϋ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―² –≠–¥–Η―² –ü–Η–Α―³
|
|
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹―É―²–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é.
–£ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–¥–Α–Φ–Ψ–≤ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―³–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ―É―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―à―É―é―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é.
–ö―Ä–Α―²–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β.
–Γ―΄–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Α –ü–Α–≤–Μ–Η–Κ, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ 12-14 –Μ–Β―², –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β, –Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä¬Μ. –≠―²–Α ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –≤–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Α―è –≤ ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β –Μ―É―΅―à–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Β―¹–Α –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–Ι ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â–Η.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ―΄―¹–Α –™–Ψ―Ä–Ϋ, ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Α–Β―² –≤ –Α–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è―Ö, –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―é ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–‰–¥–Ζ―É–Φ–Ψ¬Μ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Β―² –Β–≥–Ψ ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Μ―É―΅–Ψ–Φ. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Α–≥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Α–Β―² –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É–Β―² –Β―ë –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ü–Α―¹―Ö–Η, –Ψ–±–Β–Ζ–≤―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β―² –¥–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² ¬Ϊ–ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä¬Μ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ.
–£ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤–Α, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―΄–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Β¬Μ.
–Γ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –€–Ψ―¹―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –Ω–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –™.–ê–¥–Α–Φ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β-–Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Η–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ 30 –Μ–Β―², ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤ 60-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –¥–≤–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-133¬Μ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¦–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Γ―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤ –Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ―Ä―É–Η–Ζ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –Κ―Ä―É–≥ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―¹ –°–≥–Α, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α, –≤―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η. –Γ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Ψ–Μ―é―¹–Β. –û―²–Φ–Β―²–Η–≤ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β ―³―É―²–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―΅–Β–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –ë–ß-V –Η –ë–ß-–¦―é–Κ―¹ (―²–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Φ–Β–Ϋ―É―é―² –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄). –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ –±―É–¥―É―â–Η–Ι –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤.
–î–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―ç–Ω–Ψ―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è ―Ä–Α–Ζ–±–Α–≤–Μ―é –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –±―É–¥–Ϋ―è–Φ–Η. –ß–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ –Ω–Ψ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α.
–ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Ψ―â―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―É–¥–Β―² –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―²–Β–Κ―¹―²–Α.
–ß―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―ë–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―Ä–Η–Μ–Η¬Μ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –±―É―Ö―²―É (–Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β βÄ™ –Η ―²–Α–Κ–Η–Β –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β!!!). –‰ ―²―É–¥–Α, –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, ―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η –Η –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤―É –î–Φ–Η―²―Ä–Η―é –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅―É –½–≤–Α–Ϋ–Η―è –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, –Α –Ψ–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –¥―É―à. –‰ –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ–Μ―΄–Ι, –Ζ–Α–Κ―É―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é: –Ϋ–Η –¥–Α―²―¨, –Ϋ–Η –≤–Ζ―è―²―¨, ―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―²―Ä–Η―Ü–Η–Ι, βÄ™ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―² (–Π–ü) –Κ ¬Ϊ–ö–Α―à―²–Α–Ϋ―É¬Μ (–≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Α―è ―¹–≤―è–Ζ―¨) –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η. –Γ–≤–Ψ―ë –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ; ¬Ϊ–î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―¹βÄΠ!!!¬Μ.
–£–Ψ―² ―è –Η –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –î–ï–ô–Γ–Δ–£–‰–Δ–ï–¦–§–ù–û–Γ–Δ–‰, –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Ζ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Β –™–Μ–Α–≤―΄.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η βÄ™ –Η ¬Ϊ–ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä¬Μ –Η–Ζ –€–Ψ―¹―³–Η–Μ―¨–Φ–Α –Η –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-133¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Α–Κ―²―ë―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Γ―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –¦–Β–≤ –Γ―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Β–Μ―è–≤–Η!!!
–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –Γ―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤. –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –¦―é–¥–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β. –ë–Η–Μ–Β―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Μ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –≤ –Φ–Β―²―Ä–Ψ, –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η-–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β―Ä―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Α. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Γ―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ ―Ü–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Α –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ–Η―Ä–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ –Γ―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤–Α ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä –€―É―Ö–Η–Ϋ–Α –≤–Α―è–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ "–†–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ".
–¦–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Γ―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤ βÄî –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.
|
|
45. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è βÄî –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ë–Ψ–≥–Α
| |
–Δ–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α―é―² –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Η –Ϋ–Β –Ζ―Ä―è.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –±―É–¥―¨ ―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Η–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö, ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Η–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨, –Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Η–Φ–Β―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―², ―¹–Η–Μ―É –≤–Ψ–Μ–Η, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É, –Ε–Β―¹―²–Κ―É―é ―Ä―É–Κ―É –Η ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–Β –≤ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Η ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Ι, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ―΄–Ι, –Η ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Η–Φ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Η –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –ë–Ψ–≥–Α.
–‰ –Β―â―ë. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ü–Β―²–Β―Ä –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–ß–Η–Ε–Α–Μ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Η–≤–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ¬Μ. –ê –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–ΦβÄΠ
–™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ–Α-, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ- ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α–Φ–Ϋ―è–Φ–Η –Η –Ψ―²–Φ–Β–Μ―è–Φ–ΗβÄΠ –‰ –≤–Β―²―Ä―΄, –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β –Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, ―²–Α–Κ –Η –≤–Ϋ–Β. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Η –ù–Β–Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α βÄ™ ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –®―²–Ψ―Ä–Φ―΄ –Η –®–Κ–≤–Α–Μ―΄, –Γ–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –½–Α―Ä―è–¥―΄ –Η –î–Ψ–Ε–¥–Β–≤―΄–Β –¦–Η–≤–Ϋ–Η. –‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Α –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Η –≤ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β. –ù–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä. –¦―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨, –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨, –Ψ–±―É―΅–Η―²―¨ –Η –Ω―Ä. –Η –Ω―Ä., ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―², –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–Β–Φ–Β. –‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è!!!
–Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α ¬Ϊ–Θ–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨¬Μ –ö.–€. –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä–Β ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Β (–Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β) –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Ω–Μ―΄–Μ–Η –Η–Ζ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α (–≥–¥–Β –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η ―É–≥–Ψ–Μ―¨), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –‰–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―²―Ä–Α –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Μ–Ϋ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Ϋ–Α―²―΄. –‰ –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –≤–Η–Ϋ―² ¬Ϊ–Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ¬Μ –Ω–Ψ –Κ–Α–Φ–Ϋ―è–Φ.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι, –±–Β–Ζ –≤–Η–Ϋ―²–Α, –±–Β–Ζ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι, –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―à–Α―è―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä―É–Μ―è, ―¹―²–Α–≤ –Μ–Α–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Κ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹―¹―è –Ϋ–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –≥―Ä―è–¥―É –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Ι, –Κ ―¹–Β–¥–Ψ–Ι –Ω–Β–Ϋ–Β –±―É―Ä―É–Ϋ–Ψ–≤, –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –€–Α―à–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è, –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α.
–ö―Ä–Η–Κ ―É–Ε–Α―¹–Α –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ –≥―Ä―É–¥–Η ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Ζ–Α―¹―²―΄–Μ –Ϋ–Α –Η―¹–Κ–Α–Ζ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Μ–Η―Ü–Α―Ö –Η –≤ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö, ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Μ–Β―é―â―É―é –≤–¥–Α–Μ–Η, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥―É―²―É―é, –Μ–Β–Ϋ―²―É. –£―¹–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η –Η –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―è–Β―² –Η―Ö –Ψ―² –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η. –ù–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―è–¥–Β –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Ι, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ϋ–Β―¹ –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä ―¹ ―É–Ε–Α―¹–Α―é―â–Β–Ι –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―¨–Β―²―¹―è –≤–¥―Ä–Β–±–Β–Ζ–≥–Η, –Η –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ–¥―è–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥ –±–Β―¹–Ϋ―É―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Φ–Ψ―Ä―è. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β, –Η ―²–Ψ―¹–Κ–Α –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –¥―É―à–Η, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β―Ä–≥–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö―¹―è, ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Μ–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―Ü–Α―Ö, –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ―Ä–Α―΅–Κ–Α―Ö –Η –≤―΄―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Α―Ö.
–ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Α–Φ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ ―É–Ε–Β –≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Α ―¹ –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α ―ç―²―É –≥–Ψ―Ä―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―΅―É―â–Η―Ö, –≤–Β―é―â–Η―Ö –Μ–Β–¥―è–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Μ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Β―à–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α―΅―É―² –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥, ―²―Ä–Β–Ω–Μ―é―² –±–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä, –±―Ä–Ψ―¹–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹ –±–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Κ, –Κ–Α–Κ ―â–Β–Ω–Κ―É, –Η –≤–Κ–Α―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≤–Β―Ä―Ö―É―à–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, –Ψ–±–¥–Α–≤–Α―è –Μ–Β–¥―è–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä―΄–Ζ–≥–Α–Φ–Η.
–€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Η, –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–±–Β–Μ–Β–≤―à–Η–Φ–Η ―É―¹―²–Α–Φ–Η ―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄. –ü–Ψ –Μ–Η―Ü–Α–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Β–Κ–Μ–Η ―¹–Μ–Β–Ζ―΄. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–¥–Η–Ϋ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –û–Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ψ―² ―¹–Ψ―Ö–Η –≤ ¬Ϊ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ―é―é¬Μ –Η ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –±–Ψ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è –Φ–Ψ―Ä―è, –≤–¥―Ä―É–≥ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Α―Ö–Ϋ―É–Μ, –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ –±–Β–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Φ–Β―Ö–Ψ–Φ –Η, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ψ―²–Φ–Α―à―¨ ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–±–Β–Ε–Α–Μ –Κ –±–Ψ―Ä―²―É, –≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β―²–Κ–Η –Η ―¹ ―²–Β–Φ –Ε–Β –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η ―²–Ψ―²―΅–Α―¹ –Ε–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ –≤ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α―Ö.
–ï―â–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ψ–±–Β–Ζ―É–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ψ―² –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Η ―¹ –¥–Η–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ω–Μ–Β–Φ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –±―΄–Μ–Ψ –Κ –±–Ψ―Ä―²―É, –Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –ï–≥–Ψ―Ä –€–Η―²―Ä–Η―΅ ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―à–Η–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Η ―É–≥–Ψ―¹―²–Η–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–≥–Α–Ϋ―¨―é. –≠―²–Α ―Ä―É–≥–Α–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ–Α –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β. –û–Ϋ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –Ψ―²–Ψ―à–Β–Μ –Ψ―² –±–Ψ―Ä―²–Α, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²―è―¹―¨ –Η ―Ä―΄–¥–Α―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ.
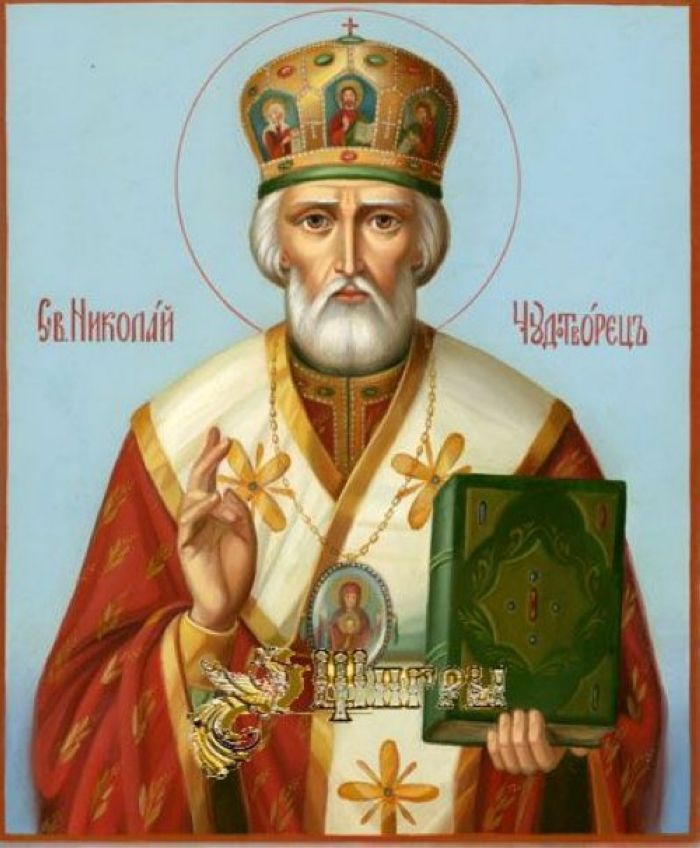 βÄî –Δ–Α–Κ-―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, - –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ï–≥–Ψ―Ä –€–Η―²―Ä–Η―΅ –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―É―é –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ―É, - –ë–Ψ–≥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―Ä–Β―à–Α―²―¨―¹―è, –≥–Μ―É–Ω–Α―è ―²–≤–Ψ―è –±–Α―à–Κ–Α, ―²–Α–Κ ―²–≤–Ψ―é ―²–Α–Κ! –ê ―²―΄, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ, –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―΅―¨, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Β―â–Β –Η –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―², - –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ, ―É―²–Β―à–Α―è, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, ―¹–Α–Φ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―¨–Β. –‰ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Μ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–≤―à–Β–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨.
βÄî –Δ–Α–Κ-―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, - –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ï–≥–Ψ―Ä –€–Η―²―Ä–Η―΅ –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―É―é –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ―É, - –ë–Ψ–≥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―Ä–Β―à–Α―²―¨―¹―è, –≥–Μ―É–Ω–Α―è ―²–≤–Ψ―è –±–Α―à–Κ–Α, ―²–Α–Κ ―²–≤–Ψ―é ―²–Α–Κ! –ê ―²―΄, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ, –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―΅―¨, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Β―â–Β –Η –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―², - –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ, ―É―²–Β―à–Α―è, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, ―¹–Α–Φ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―¨–Β. –‰ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Μ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–≤―à–Β–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨.
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η, ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―É–±―Ä–Η–Κ, ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Η ―΅–Η―¹―²―΄–Β ―Ä―É–±–Α―Ö–Η –Η, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―è –Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è-–ß―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β, –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö, ―΅―²–Ψ–± –≥–Η–±–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –Μ―é–¥―è―Ö.
–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ ―É–Ε–Α―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Ι –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. –ü―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α –Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β―¹―², ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –Κ –≥–Η–±–Β–Μ–Η, ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –‰ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É, ―¹–±–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Μ–Ω―É ―É –≥―Ä–Ψ―²-–Φ–Α―΅―²―΄, –Η ―¹ ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α.
–‰ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, ―¹–±–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Κ―É―΅―É –Ϋ–Α ―à–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α―Ö, –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, ―²–Ψ–Μ–Ω–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―É –≥―Ä–Ψ―²-–Φ–Α―΅―²―΄, ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α. –‰ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ ―ç―²–Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―¹–Η –Ϋ–Α―¹!¬Μ
–Γ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Μ–Κ, –±–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Η –Ψ–Ζ–Μ–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―â–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –≤―¹–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ―¹―à–Η–Ι –Κ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ―É, –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Β―Ä–¥–Η―²–Ψ –Ψ–Ζ–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥, –Η―â–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä–Α. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ–Ϋ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―²–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Μ―¨–±―΄ –Η ―É–Κ–Ψ―Ä–Α, ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Η –Φ―΄―¹–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―² –≤ –≥–Η–±–Β–Μ–Η, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–≤ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É―²―¨ –Φ―É―¹–Κ―É–Μ―΄ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―ç―²―É –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Μ–Η―Ü–Α. –Γ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄, –Κ–Α–Κ –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹―¹―è –Ϋ–Α –≥―Ä―è–¥―É, –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –≤ ―ç―²―É –Φ–Η–Ϋ―É―²―É ―Ü–Β–Μ―É―é –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ ―É–Ε–Α―¹―É ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Α... –ï―â–Β –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ –Φ–Η–Ϋ―É―², –Η –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η―² –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, –Η ―²–Α–Φ –Ψ–±―â–Α―è ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨...
–ù–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΅–Η–Κ, –≤–¥–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –±–Β―Ä–Β–≥ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α, –≤–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –±–Μ–Β―¹–Ϋ―É–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ –±–Μ–Β―¹–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–Ζ–Α―Ä–Η–≤ –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Ψ. –‰ –≤ ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –≤ ―Ä―É–Ω–Ψ―Ä –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Φ, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ü–Α―Ä―É―¹–Α ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨! –€–Α―Ä―¹–Ψ–≤―΄–Β –Κ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ! –•–Η–≤–Ψ! –ö–Α–Ε–¥–Α―è ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄!¬Μ - –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ –Ψ–Ϋ. –≠―²–Ψ―² ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ω―Ä–Ψ–±―É–¥–Η–Μ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―¹–Φ―É―²–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α, –Κ ―΅–Β–Φ―É ―¹―²–Α–≤―è―²―¹―è –Ω–Α―Ä―É―¹–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Κ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Η –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι ―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Α, –≤–Β―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β–Ω–Β–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α. ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΅–Α–≥–Α! –£―΄―Ä―É―΅–Η–Μ!¬Μ - –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Μ―é–±―É―è―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Κ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Η –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–≤―à–Η―¹―¨, –≤ ―΅–Β–Φ –¥–Β–Μ–Ψ.
–‰ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ–Ε–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Η ―¹―²–Α–Μ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤ –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΅–Η–Κ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ–Η.
βÄî –· –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥! - –Ψ―²―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ, ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É –Η –Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É. - –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²–Α–Φ ―΅–Η―¹―²–Ψ... –ö–Α–Φ–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β―²? - –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ –Ψ–Ϋ, ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ζ–Α–Κ–Ψ―¹―²–Β–Ϋ–Β–≤―à–Β–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤―è–¥–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΅–Η–Κ, –Ψ–Φ―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –Μ–Ψ―â–Η–Ϋ–Κ―É.
βÄî –ù–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨! - –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ.
βÄî –ê –Κ–Α–Κ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Α?
βÄî –ü–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―³―É―²–Ψ–≤.
βÄî –‰ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ... –£ –Ω–Ψ–Μ–≤–Β―²―Ä–Α –Φ–Η–≥–Ψ–Φ –¥–Ψ–Μ–Β―²–Η–Φ...
βÄî –ö–Α–Κ –±―΄ –≤ ―ç–¥–Α–Κ–Η–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Ψ –Φ–Α―΅―²! - –≤―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä.
βÄî –ï―¹―²―¨, –Ψ ―΅–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, - –Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Κ–Η–Ϋ―É–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –≤ ―Ä―É–Ω–Ψ―Ä, βÄ™ –•–Η–≤–Ψ, –Ε–Η–≤–Ψ, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄!
–ù–Ψ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄¬Μ, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β―è―Ö –Η ―Ü–Β–Ω–Κ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä―²–Α―Ö (–≤–Β―Ä–Β–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Β―è–Φ–Η, –Α–≤―².), –Η –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–¥–±–Α–¥―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Φ–Α―Ä―¹–Β–Μ―è –Η –≤―è–Ζ–Α―²―¨ ―Ä–Η―³―΄, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –≤–Β―²–Β―Ä, –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η–Ι –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Η―Ö ―¹ ―Ä–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä–Β―é –Η –Ω―Ä–Η–Ε–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Ι, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Φ–Α―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –Α–¥―¹–Κ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β, –Ω―Ä–Η –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η―Ö―Ä–Β. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ü–Β–Ω–Μ―è―²―¨―¹―è –Ζ―É–±–Α–Φ–Η –Ζ–Α –Φ―è–Κ–Ψ―²―¨ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α –Η ―Ä–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η –Ϋ–Ψ–≥―²–Η.
–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Φ–Η–Ϋ―É―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ―¹―è –Κ –±―É―Ä―É–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, –Ω–Α―Ä―É―¹–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄, –Η ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ ―¹ –Φ–Α―Ä―¹–Β–Μ―è–Φ–Η –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Η―³–Α –Η –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α–Κ―¹–Β–Μ–Β–Φ, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι ―É–Ζ–¥–Β, –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –≤–Β―²―Ä―É –Η, –Ϋ–Α–Κ―Ä–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―΅―²–Η ―΅–Β―Ä―²―è –≤–Ψ–¥―É –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –≤–Μ–Β–≤–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―É―é –Ω–Β–Ϋ―è―â―É―é―¹―è –Μ–Β–Ϋ―²―É –±―É―Ä―É–Ϋ–Ψ–≤.
–£―¹–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Μ–Η―Ü–Α―Ö, –Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –ï–≥–Ψ―Ä –€–Η―²―Ä–Η―΅ ―É–Ε ―Ä―É–≥–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ –Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≤―΄―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι ―à–Κ–Ψ―² ―É ―¹―²–Α–Κ―¹–Β–Μ―è –Η ―¹ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö, –Ϋ–Α –≥–Ϋ―É–≤―à–Η–Β―¹―è –Φ–Α―΅―²―΄.
βÄî –Γ–Ω–Α―¹–Α–Ι―²–Β-–Κ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä―΄, –¦–Α–≤―Ä–Β–Ϋ―²–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ―΄―΅, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α, - ―É–¥–Α―Ä –±―É–¥–Β―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≤―Ä–Β–Ε–Β–Φ―¹―è.
–Γ―²–Α―Ä―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä―΄ –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄.
–ö–Μ–Η–Ω–Β―Ä, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―΅–Α–Ι–Κ–Α, –Μ–Β―²–Β–Μ ―¹ –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Φ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –€–Β―Ä―²–≤–Ψ–Β –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―Ü–Α―Ä–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β.
βÄî –î–Β―Ä–Ε–Η―¹―¨, ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Κ―Ä–Β–Ω―΅–Β! - –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, ―¹–Α–Φ –≤―Ü–Β–Ω–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Η... βÄ™ –€–Α―Ä―¹–Α ―³–Α–Μ―΄ –Ψ―²–¥–Α–Ι! –Γ―²–Α–Κ―¹–Β–Μ―¨ (–Κ–Ψ―¹–Ψ–Ι ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹, –Α–≤―².) –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ι!
–ü–Α―Ä―É―¹–Α –Ζ–Α―²―Ä–Β–Ω―΄―Ö–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Β–≥–Α –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –Μ–Ψ―â–Η–Ϋ―΄, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ –≤ –Φ―è–≥–Κ–Η–Ι –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―².
–£―¹–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Η–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄.
βÄî –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Α–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η! - –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É. - –†–Α–¥―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è, –≤–Α―à―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Β! - ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. - –½–Α –≤–Α―¹ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β–Φ –±–Ψ–≥–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨! - ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤―΄–¥–Α―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ –Ω–Ψ –¥–≤–Β ―΅–Α―Ä–Κ–Η –≤–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤–Α―Ä–Η―²―¨ –Η–Φ –≥–Ψ―Ä―è―΅―É―é –Ω–Η―â―É.
βÄî –€–Ψ–Μ–Η―²–Β –ë–Ψ–≥–Α, ―΅―²–Ψ –≤–Α―¹ –Ϋ–Β –Β–¥―è―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―Ä―΄–±―΄! - ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ. - –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à ―É–Φ–Ϋ–Η―Ü–Α-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –±―΄–Μ–Η –±―΄ –Φ―΄ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ϋ–Α―¹ –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ... –™–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨... –¦–Η―Ö–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ! βÄî –£―¹–Β –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ, –Α –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù―΄―Ä–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: ¬Ϊ–· –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤–Μ―é–±–Η–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è!.. –‰ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –¥―¨―è–≤–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –¥―É―Ö–Α...¬Μ. –£ ―ç―²―É –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –¥–≤–Β―Ä–Η –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨. –£―¹–Β ―¹–Φ–Ψ–Μ–Κ–Μ–Η. –£–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ.
βÄî –ù―É, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ, ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―è ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É, - –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ
–Γ–Α–Ϋ-–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―¹–Κ–Ψ –±―É–¥–Β–Φ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―²―Ä―É―â–Ψ–±–Β.
–î–Α ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―΄, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β? - –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–≤ –Ψ–±―â–Η–Β ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄, ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É.
βÄî –£―΄ –Ω–Ψ―¹–Β–¥–Β–Μ–Η, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅, - ―²–Η―Ö–Ψ, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ.
–î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Β–≥–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–Κ―É―Ä–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–Β–¥–Α.
- –ü–Ψ―¹–Β–¥–Β–Μ?! –ù―É, ―ç―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –±–Β–¥–Α, - –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Μ–≤–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. βÄ™ –€–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄―²―¨ –±–Β–¥–Α –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è... –ê ―΅―²–Ψ, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²–Β –Μ–Η ―É –≤–Α―¹ –Ζ–Α–Κ―É―¹–Η―²―¨? - –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ –Ψ–Ϋ. - –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è.
–£―¹–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ ―É―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ.
–£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹–Α–Φ ¬Ϊ–±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―²–Β ¬Ϊ–†–Β–Ζ–≤―΄–Ι¬Μ –Η –Ψ―²–¥–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, ¬Ϊ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Α―¹ –≤ –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Η –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Β–Φ―É ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ¬Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β –≤ –™–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ϋ–≥ –Η, –Ω–Ψ―΅–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Κ–Β, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü, –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –Η –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Μ―΄–Μ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η.
–ï―¹–Μ–Η –Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –Ϋ–Α –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä–Β ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ö.–€. –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α, ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―è –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥―Ü–Α–Φ–Η. –Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ë–Β―Ä–≥¬Μ –Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ. –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Μ–Η¬Μ –≤ –±―É―Ö―²―É –ß–Α–Ε–Φ–Α, –≥–¥–Β ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –≠―²–Ψ –¥–Α―ë―² –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄.
–£ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ, –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö-56¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ―à–Ω–Α―Ä–Η―²¬Μ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ.
–ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Η –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –¥–Α–Μ–Β–Β.
–£ ―΅–Α―¹ –Ϋ–Ψ―΅–Η ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-56¬Μ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η 12βÄ™14 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –Ψ–≥–Η–±–Α–Μ–Α –Φ―΄―¹ –ü–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ.
–†–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Φ―΄―¹–Α –ü–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―ë―¹―²–Ψ–Κ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η ―¹ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β―²―¹―è –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Β. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è βÄ™ –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η. –ê ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤–Β―à―¨ βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ―Ü–Α―Ä–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è –±–Β―¹–Ω–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–î–Ψ –±–Α–Ζ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–¥–Α. –Ξ–Ψ―²―è ―¹ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ¬Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η, –Η–¥―É―â–Β–Ι –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ¬Ϊ–ö-56¬Μ, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –≤–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Α―è ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι, –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –≤ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ¬Ϊ–≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Ι ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤¬Μ, –Α –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è βÄ™ –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ (–≥―É–¥–Κ–Η), ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ βÄ™ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Φ―΄―¹–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι. –ù–Ψ, –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ –ü–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –Ψ―΅―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β!!!?? –ù–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨, –Κ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η –Κ―É–¥–Α –¥–≤–Η–Ε―É―²―¹―è, –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α βÄ™ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-56¬Μ –Η–Ζ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α –≤―΄–Ϋ―΄―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ-–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²―Ä―è―¹–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Β―Ä―¹–Α βÄ™ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, βÄ™ –Ϋ–Ψ ―É–Ι―²–Η –Ψ―² ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. ¬Ϊ–ö-56¬Μ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―². –ù–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ë–Β―Ä–≥¬Μ, –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η 9 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –≤―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ ―É–≥–Μ–Ψ–Φ.
–½–¥–Β―¹―¨ –Η –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, (–≤ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι) ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä ―Ä–Ψ–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α–Φ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è –¥―΄―Ä–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥―΄―Ä–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α!!!¬Μ
–û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²―΄–Κ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β ―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–Μ–Α –≤–Ψ–¥–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –£―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤―É―Ö –Φ–Η–Ϋ―É―² ―¹ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Α―è –≤ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –≤–Ψ–¥–Α –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Η–Ζ, –≤―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Η ―Ö–Μ–Ψ―Ä.
–£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ ―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–Μ–Α –≤–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–≥–Α―¹ ―¹–≤–Β―², ―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ–Α. –î―΄―Ö–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ (–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ ―ç―²–Ψ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨), ―΅―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω―É―²―¨ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥–Α–Ζ―É –Η –Ψ–±―Ä–Β―΅―¨ –Ϋ–Α –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ¬Ϊ–ö-56¬Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ι―²–Η ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―¹ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ–Β–Ζ–Α―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ε–Η―¹―¨ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-5 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –€–Α―²–≤–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ü―à–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ϋ –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Ω–Ψ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ―É ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Β–Φ―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ―É –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Μ―é–¥–Β–Ι, –≤ –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ–Β ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ. –ù–Η –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Η ―è–¥–Ψ–≤–Η―²―΄–Β –Ω–Α―Ä―΄ ―Ö–Μ–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ ―ç―²―É ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-5 ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α―à–Μ–Η βÄ™ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Ψ―è―²–Κ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–≤–Β―Ä–Η. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ω–Ψ–≥–Η–± –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –ö-56 βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê. –¦–Ψ–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄–≤―à–Η–Ι –¥–≤–Β―Ä―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –€–Α―²–≤–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –±―΄–Μ–Η βÄ™ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ê–ü–¦: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ι―²–Β ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨!!!¬Μ. –û–Ϋ–Η –≤–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ―É –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η βÄ™ ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ë–Ψ–≥–Α¬Μ.
–£ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η ―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²―É–Κ ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Β–Ζ―΅–Β –Η ―΅–Α―â–Β, –Α –Β―â–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –≤―¹–Β –Ζ–Α―²–Η―Ö–Μ–ΨβÄΠ
–£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Β –≤ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Η –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Η ―²–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ, βÄ™ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α ―É–¥―Ä―É―΅–Α―é―â–Α―è.
–ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–≥–Ψ. –‰ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –¥–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι –Ϋ–Β ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―É–≥–Ϋ–Β―²–Α―²―¨ –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è. –î–Α, –Η –Φ–Ϋ–Β, –Ω–Η―à―É―â–Β–Φ―É –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ βÄ™ ―Ö–Ψ―²―¨ –≤ –Ω–Β―²–Μ―é –Μ–Β–Ζ―¨!!! –ö–Α–Κ ―²–Ψ―² ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä –Η–Ζ –Φ―É–Μ―¨―²―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ¬Ϊ–Λ–Η–Μ―¨–Φ, ―³–Η–Μ―¨–Φ, ―³–Η–Μ―¨–ΦβÄΠ¬Μ
–£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –≥–Η–±–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―Ä―è–¥―É –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β―²–Η. –Γ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―â–Η―²–Α ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ, –≤―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β ―΅–Β–≥–Ψ –≤―¹―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Ω–Α–¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ 70 –≤–Ψ–Μ―¨―² –Η–Ζ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―΄―Ö 170. –ë–Β–Ζ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨-–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä, –Η –ö-56 ―à–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η ―³–Ψ–Μ–Α –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨.
–®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ ―ç―²―É –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ ―²–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Ϋ–Β ―Ä–Η―¹–Κ―É―è –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Β–Φ―É ―ç―²–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Ψ –Ψ–±―â–Β–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–£–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β! –ü―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ ―É–¥–Α―Ä―É –Ψ –≥―Ä―É–Ϋ―²¬Μ. –Δ–Ψ–Μ―΅–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö-56¬Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η.
–ß―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η, –Ϋ–Β –±―É–¥―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η ―¹ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Κ–Ψ –¥–Ϋ―É, –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –±―΄ ―ç―²–Α –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-56¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ ―¹–Ω–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ù–Ψ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ψ–Ϋ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ, ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―Ö–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―éβÄΠ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Μ―è―è―¹―¨, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ―ë ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –≤―¹–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨. –£–Ψ―² –Η –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–≥–Ψ, –ö―²–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –î–Ψ―à–Μ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ –¥–Ψ –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α. –· –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―¹―¨.
–‰―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ë–Β―Ä–≥¬Μ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Α―Ä–Α–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ï–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ –€–Α―Ä―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Η–Μ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α 20 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Κ–Ψ―¹―è–Κ–Ψ–≤ ―Ä―΄–±―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ë–Β―Ä–≥¬Μ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é, ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Η ¬Ϊ–ö-56¬Μ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –±–Β―¹–Ω–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è ―²–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Α –ë–Β―Ä–≥–Α¬Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –ê ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ë–Β―Ä–≥¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –≤–Η–¥―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥ –Η –¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Β―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η. –Θ–≤―΄, –Ϋ–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-56¬Μ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―¹―É–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ë–Β―Ä–≥¬Μ βÄ™ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η ―¹―É–¥–Ϋ–Β. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Η–Κ―΅–Β–Φ–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄ –≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –¥–Α–Ε–Β –Φ–Α–Μ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α–Φ–Η.
–‰ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Η –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –ö―²–Ψ-―²–Ψ ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ë–Ψ–≥–Α¬Μ.
–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Ψ―â―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η! –ß―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–±―É–¥–Η―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é. –‰ ―²–Β–Κ―¹―² –±―΄–Μ –±―΄ ―¹–Β―Ä―΄–Φ, –Ϋ–Β ―è―Ä–Κ–Η–Φ –±–Β–Ζ ―ç―²–Α–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Κ–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –Η–Ζ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ ―É –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ―è: ¬Ϊ–Γ–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ε–Η―²―¨ –±–Β–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ. –î–Α, –Η –¥―Ä–Β–Φ–Α–≤―à–Η–Ι –¥–Ψ―¹–Β–Μ–Β ―¹–Κ―É―΅–Α―é―â–Η–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―¹―²―Ä–Β–Ω–Β–Ϋ–Β―²―¹―è –Η –±―É–¥–Β―² ―΅–Η―²–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Α―¹―΄―â–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –≠―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Η ―΅–Η―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Β–≥–Ψ –Κ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅―²–Β–Ϋ–Η―é.
–‰―²–Α–Κ, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Η–Ζ–Ψ―â―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨
–û –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―É –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≥–Ψ–Φ–Ψ ―¹–Α–Ω–Η–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤ (–ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι). –ï―¹–Μ–Η ―É –±–Α―Ä–¥–Α –°―Ä–Η―è –£–Η–Ζ–±–Ψ―Ä–Α βÄ™ –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ψ–±–≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Μ―΄. –Θ –•―é–Μ―¨ –£–Β―Ä–Ϋ–Α βÄ™ –ü―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. –Θ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ε–Β, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è. –Γ–≤–Ψ―é –≤–Β―Ä―¹–Η―é ―è–Ω–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –±―É–¥―É―΅–Η –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö –Ϋ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―É―Ö–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Β ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ¬Μ –≤ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É –€–Α–Ι–¥–Ζ―É―Ä―É.
–£ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤ –Κ―Ä―É–≥―É ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ―² ―è–Ω–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–≤―à–Β–Φ –Β–≥–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Μ–Α–≥–Β―Ä―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É. –ù–Α–¥–Β–Μ–Η–≤ –Β–≥–Ψ ―ç–Ω–Η―²–Β―²–Ψ–Φ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –£―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥―ë―²–Β –≤ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä―è―Ö, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤―ë―² –Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Ω–Η–Ϋ–Κ–Η.
–ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η, ―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―è―²―¨. –ë―΄–≤–Α―è –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö, –Η –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ –Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ, –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –≤―΄–±–Β–≥–Α–Μ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –Μ–Α–≤–Κ–Η –Η–Μ–Η –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΅–Η–Κ–Α ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η: ¬Ϊ–· –±―΄–Μ ―É –≤–Α―¹ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ―É!¬Μ –ü―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ –Η –Ψ–¥–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Α–Φ–Η.
–‰ –¥–Μ―è –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1991 –≥. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Γ–Γ–Γ–†, –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―²―Ä―É–¥–Α –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Η–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―É–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―²–Α–Φ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Β―Ä –Ξ–Β―Ä–Ψ―¹–Η –Δ–Β―Ä–Α–≤–Α–Φ–Α –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –Ψ ¬Ϊ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―΅―É–¥–Β¬Μ: ¬Ϊ–£―΄ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β –Ψ–± –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –û –≤–Α―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ―Ä–Ψ–Μ–Η –≤ –Φ–Η―Ä–Β. –£ 1939–≥. –≤―΄, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β, –±―΄–Μ–Η ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Α –Φ―΄, ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄, –¥―É―Ä–Α–Κ–Α–Φ–Η. –£ 1949–≥. –≤―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Β―â–Β ―É–Φ–Ϋ–Β–Β, –Α –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α –¥―É―Ä–Α–Κ–Α–Φ–Η. –ê –≤ 1955 –≥–Ψ–¥―É –Φ―΄ –Ω–Ψ―É–Φ–Ϋ–Β–Μ–Η, –Α –≤―΄ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –£―¹―è –Ϋ–Α―à–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹ –≤–Α―à–Β–Ι, ―¹ ―²–Ψ–Ι –Μ–Η―à―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ, ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Η –Φ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β 15% ―Ä–Ψ―¹―²–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η, –Α –≤―΄ –Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η 30% –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β. –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³–Η―Ä–Φ–Α―Ö –≤–Η―¹―è―² –≤–Α―à–Η –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄¬Μ. –£–Ψ―² –Κ―É–¥–Α, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅―ë―²–Β, –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Η–Ζ–Ψ―â―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–î–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α, –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ζ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Β –≥–Μ–Α–≤―΄ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –Η ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –¥–Μ―è –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Μ―è –î–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄.
–ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è βÄ™ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –ù–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Β. –ü–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–Β–Φ―΄–Β ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―², –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Μ―è. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Λ–Μ–Ψ―²―É –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²―É ―¹―²–Α–Μ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Ψ–Ι βÄ™ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Η, –Ω–Η―Ä–Α―²―΄, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Η–Β –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ –Η ―¹―²–Η–Μ―¨ –Γ–Α–Φ–Ψ–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –î–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Η ―΅–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–¥―è―²―¹―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β: ¬Ϊ–ù–Α–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β!¬Μ.
–ê ―΅–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è?! –ü–Η―Ä–Α―²―¹–Κ–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Β–Φ –Η –Ψ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Ι. –‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β II –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ϋ–¥–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Φ.
–ö –Φ–Β―¹―²―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―É–¥–Β―² –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―²―΅–Α βÄ™ –Κ―É―Ö–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―É–±–Η―²―¨, –Η ―Ö–Μ–Β–± –Ϋ–Α―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ –Κ –Ψ–±–Β–¥―É.
–£–Ψ―² –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Η –±―É–¥–Β―² –¥–Α–Μ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Β.
–î–Μ―è c―²―Ä–Α–Ϋ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η―Ö –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Ϋ–Α –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –Λ–Μ–Ψ―² –Η –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Η–Φ―É–Μ–Η―Ä―É–Β―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Η. –Γ–≥―É―¹―²–Κ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η βÄ™ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄ –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Β –¥–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι, –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Η ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è ―à–Η―Ä–Ψ―΅–Α–Ι―à–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―²–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β.
–≠―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≤ ―²–Ψ–Φ ¬Ϊ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ ―²–Ψ―²–Α–Μ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –Κ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β. –ê ¬Ϊ―É–Ε–Α―¹―²–Η–Κ–Α–Φ–Η¬Μ ―²–Ψ―²–Α–Μ–Η―²–Α―Ä–Η–Ζ–Φ–Α –Ζ–Α–Ω―É–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―² –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α. –Θ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α―è –Φ–Α―¹―¹―É ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤. –≠―²–Α ―²–Β–Φ–Α –¥–Μ―è –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –™–Μ–Α–≤―΄ ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α.
–ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Β–Ι. –Γ ―ç–Ω–Η–≥―Ä–Α―³–Ψ–Φ –Ψ―² –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –•–≤–Α–Ϋ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α―Ä–Κ–Α–Ζ–Φ–Α, –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ?¬Μ βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ!¬Μ
–‰―²–Α–Κ,. c―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Α βÄ™ ―É―΅―ë–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Α, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Α, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ βÄ™ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α. –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ¬Ϊ–¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι¬Μ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–½–Η―è―é―â–Η–Β –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ―΄¬Μ, –·―Ä―΄–Ι –Α–Ϋ―²–Η―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Η―¹―² –Η –Α–Ϋ―²–Η―¹–Ψ–≤–Β―²―΅–Η–Κ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Β –Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄, –±―΄–Μ –Μ–Η―à―ë–Ϋ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥ –Η –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ –Η―Ö –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄βÄΠ –ï―â―ë –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ω–Ψ–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―²–Ψ–≤. –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ. –ù–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ, –Μ–Β―²―΅–Η–Κ –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ –€–™–Θ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ –Κ―É–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–¥―É–Φ―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι¬Μ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Η –±―É–¥―É―â–Η–Ι –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –ê–≤–Β–Ϋ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Θ―ë–Φ–Ψ–≤. –£ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Α –≤ –î–Ψ–Φ–Β –Θ―΅―ë–Ϋ―΄―Ö –ê.–ê.–½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ. –î–Α, –Η ―è, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, ―ç―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Α–Μ.
–Γ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ξ―Ä―É―â―ë–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Μ–Ψ–Φ–Α―²―¨―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²–Ψ–Η –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –ù–Ψ–≤–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. –‰ –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Μ―ë–≤–Ψ–Β (–¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―ç–Ω–Η―²–Β―²–Α ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ) –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Λ–Μ–Ψ―²―É.
–ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Η–≥–Ψ–Μ–Κ–Η¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Α–¥–Η–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ù–Β–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ϋ –≤ –ö–Η―²–Α–Ι –Ϋ–Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –‰ –Φ–Α―¹―¹–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤. –ê –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨―¹―è –Η ―¹–Α–Φ–Α ¬Ϊ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―â–Η–Ϋ–Α¬Μ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―É―é –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―É –≥–Β―Ä–Ψ―è. –‰–Φ―è –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α ―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –‰–Φ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Β. –ù–ΨβÄΠ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–Γ-335¬Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –£ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –ö―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―à―É―Ä―É–Ω–Β. –‰ –Ω―Ä–Η –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Β –ü–¦ ―¹–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ–Η.
–‰―²–Α–Κ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β. –‰ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ βÄ™ –¥–≤–Η–Εo–Κ –ë―Ä–Η–≥–Η–¥–Α, –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –ö–Ψ–Μ―è –Γ–Ω–Η―Ü–Η–Ϋ –¥–Α –Η ―è ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―ë–Ϋ–Ψ–Κ, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: ¬Ϊ–ü–Ψ–Ω―Ä–Α–≤―¨, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤―¨ –ö–Μ–Η–Φ–Β–Ϋ―² –ï―³―Ä–Β–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Α ―ç―²–Ψ―² –Ω―É―¹―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –≤―¹–Β ―²―è–≥–Ψ―²―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰–Φ, –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ö–Α, ―²–Α–Κ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ―É–¥–Α ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―ë―¹ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―¨¬Μ, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α. –ê –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β ―Ö–Ψ–¥–Α, ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α–Φ–Η. –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –±―΄–Μ–Η, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–¥–±–Α–≤–Κ–Η –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Α ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨. –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄: ¬Ϊ–· –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ¬Μ. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –±―΄–Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ―¹ –≤–Η–Ζ–Η―²–Ψ–Φ –≤ –°–≥–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―é. –‰ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β –¥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ, –Ϋ–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Η –Ϋ–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―èβÄΠ
–Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±―΄ ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η –€–Η―Ä–Α¬Μ. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Β―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ, ―É–Ε–Β ¬Ϊ–≤–¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Κ―É¬Μ. –î–Α –Η ―¹–Α–Φ –≤–Η–Ζ–Η―² –±―΄–Μ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –Β–≥–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―¹―¹―΄–Μ–Κ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ.
–£–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±―΄ ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η –€–Η―Ä–Α¬Μ. –‰ –Κ–Α–Κ –±–Β―¹―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ–Α―è –Φ―΄―¹–Μ―¨ βÄ™ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Γ–®–ê, –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ―΄―²―¨ ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –½–Β–Φ–Μ–Η ―ç―²―É ―¹–≤–Β―Ä―Ö–Φ–Ψ―â–Ϋ―É―é –î–Β―Ä–Ε–Α–≤―É. –ß―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ, –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤ –€–Η―Ä–Β, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ 1962 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Η –Ψ―² –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι. –‰ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ë―΄–Μ–Α –Γ―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –û–¥–Β―¹―¹–Α.
–ù–Α ―³–Ψ―²–Ψ, –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β ―É–Μ―΄–±–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Α―¹―²―É―à–Ψ–Κ. –ß―²–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Κ–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι? –û―²–≤–Β―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Α―²―¨ –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―¨.
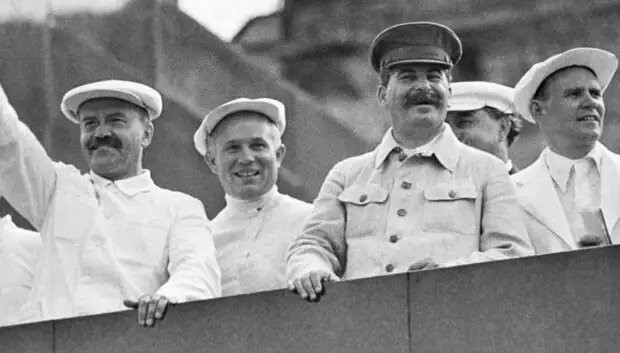
–Θ–Η–Ϋ―¹―²–Ψ–Ϋ –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―¨ –≤ 1964 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ 90-–Μ–Β―²–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―Ä–Β―Ü ―¹ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α–Φ–Η, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–Ϋ―ë―¹ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤ –≤―Ä–Β–¥–Α –≤ 1000 ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―è. –≠―²–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ξ―Ä―É―â―ë–≤, –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Β–Φ –Β–Φ―É!¬Μ
–ï―¹–Μ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ü–Β―²―Ä –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η (–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≥–Μ–Α–≤―΄ ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ) –Ψ―²–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―² –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ. –Δ–Ψ –Θ–Η–Ϋ―¹―²–Ψ–Ϋ –ß–Β―Ä―΅–Η–Μ–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è –¥―΄―Ä–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Η –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥―΄―Ä–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
|
|
|
|
|
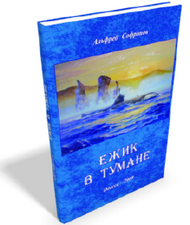


 –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ-–Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –£–€–Λ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Η –€–û –Γ–Γ–Γ–† (1989-1991–≥–≥) –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¨–Κ–Ψ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―Ö, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ...―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Β –±–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―é―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–ΑβÄΠ¬Μ
–ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –±―É–¥–Β―² –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹.
–£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ-–Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –£–€–Λ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Η –€–û –Γ–Γ–Γ–† (1989-1991–≥–≥) –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¨–Κ–Ψ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―Ö, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ...―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Β –±–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―é―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–ΑβÄΠ¬Μ
–ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –±―É–¥–Β―² –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹.
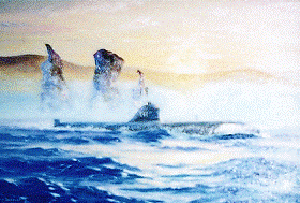 –ï―â―ë –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α ―É –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α. –· –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –û―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –†–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –¦–Β―²–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Μ―¹―è: –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–†–ë¬Μ βÄ™ ―Ä–Β–Ω―¹–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Ψ–±–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ–±–≤―ë–Μ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-3 –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è¬Μ. .
–ï―â―ë –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α ―É –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α. –· –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –û―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –†–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –¦–Β―²–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Μ―¹―è: –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–†–ë¬Μ βÄ™ ―Ä–Β–Ω―¹–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Ψ–±–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ–±–≤―ë–Μ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-3 –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è¬Μ. .

 –ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ζ–Α ―²―É –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η, –Α ―è –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ.
–ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ζ–Α ―²―É –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η, –Α ―è –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ.

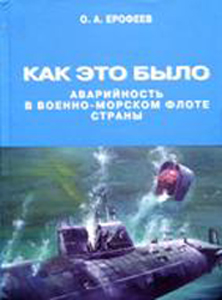
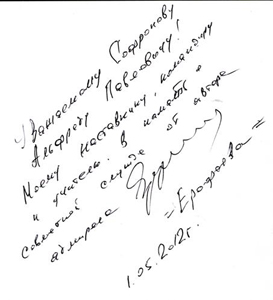
 ¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß-5, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β: –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –£–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –±―Ä―é–Κ–Η¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à―É―²–Κ–Α¬Μ. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –±―Ä―é–Κ, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Η―Ö ―É–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η.
¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß-5, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β: –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –£–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –±―Ä―é–Κ–Η¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à―É―²–Κ–Α¬Μ. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –±―Ä―é–Κ, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Η―Ö ―É–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η.
 –ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö 99-―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―²―ë–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―É –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Ε–Α–Μ –ê.–ü.–Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –û–Ϋ –Ε–Β, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –û–Ϋ, ―².–Β. ―è, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö ―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ë–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―¹ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.
–ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö 99-―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―²―ë–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―É –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Ε–Α–Μ –ê.–ü.–Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –û–Ϋ –Ε–Β, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –û–Ϋ, ―².–Β. ―è, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö ―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ë–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―¹ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.
 –ù–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η―Ö –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–™–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è?¬Μ –ü–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄ™ –≤ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –™–Β–Ϋ―É–Β. –ù–Ψ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –Ψ―¹–Ω–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Η –ü–Ψ―Ä―²―É–≥–Α–Μ–Η―è, –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è, –Η –¥–Α–Ε–ΒβÄΠ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è. –ê –≤–Ψ―² ―É –£―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ? - ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ: ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ϋ –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ
–ù–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η―Ö –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–™–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è?¬Μ –ü–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄ™ –≤ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –™–Β–Ϋ―É–Β. –ù–Ψ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –Ψ―¹–Ω–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Η –ü–Ψ―Ä―²―É–≥–Α–Μ–Η―è, –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è, –Η –¥–Α–Ε–ΒβÄΠ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è. –ê –≤–Ψ―² ―É –£―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ? - ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ: ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ϋ –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ
 –Γ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Α―è –ö–™–ë, –Ϋ–Η –Γ–ë–Θ –Ϋ–Η–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Η ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Γ–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α, –Η –¥–Α–Ε–Β –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –î―ä―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ–Α –Γ–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―². –€―΄ –Ε–Β, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –ö–Ϋ–Η–≥―É –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α.
–Γ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Α―è –ö–™–ë, –Ϋ–Η –Γ–ë–Θ –Ϋ–Η–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Η ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Γ–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α, –Η –¥–Α–Ε–Β –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –î―ä―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ–Α –Γ–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―². –€―΄ –Ε–Β, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –ö–Ϋ–Η–≥―É –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α.
 –£ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –°–≥―É, –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Β–¥―Ä –Ω–Ψ–¥ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
–£ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –°–≥―É, –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Β–¥―Ä –Ω–Ψ–¥ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ.
 –ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ –Η ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Β―ë –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤ –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β(?!) –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Φ–Ϋ―è –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η (!) –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β. –‰–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨!!!
–ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ –Η ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Β―ë –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤ –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β(?!) –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Φ–Ϋ―è –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η (!) –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β. –‰–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨!!!
 –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ 90 –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ¬Ϊ–Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, ―à―É―²―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Η–Ζ–¥―ë–≤–Κ–Η, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Η –Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –Ψ–¥–Β–Μ, –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –≤ –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α?¬Μ –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä―é―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€-46¬Μ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ 33 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―΄–≤―à–Β–Ι –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α, –Η ―¹–Μ―΄–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η―Ö ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ¬Ϊ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ.
–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ 90 –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ¬Ϊ–Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, ―à―É―²―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Η–Ζ–¥―ë–≤–Κ–Η, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Η –Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –Ψ–¥–Β–Μ, –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –≤ –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α?¬Μ –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä―é―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€-46¬Μ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ 33 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―΄–≤―à–Β–Ι –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α, –Η ―¹–Μ―΄–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η―Ö ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ¬Ϊ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ.
 –û–±―Ä–Α―²–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―É–±–Ψ―Ä―΄ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ê ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β /!!!/βÄΠ ―ç―²–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹―΄ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Κ–Η–≤–Β―Ä–Α –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Β–Ϋ–Α–¥―ë―Ä–Ψ–≤. –Γ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η.
–û–±―Ä–Α―²–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―É–±–Ψ―Ä―΄ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ê ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β /!!!/βÄΠ ―ç―²–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹―΄ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Κ–Η–≤–Β―Ä–Α –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Β–Ϋ–Α–¥―ë―Ä–Ψ–≤. –Γ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η.
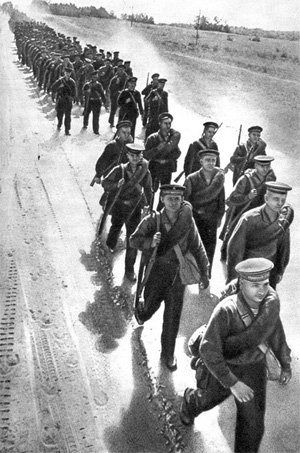 –ê ―ç―²–Ψ βÄ™ –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à–Β. –£–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ (―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ) –Ϋ–Α –Η―Ö –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η.
–ê ―ç―²–Ψ βÄ™ –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à–Β. –£–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ (―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ) –Ϋ–Α –Η―Ö –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η.
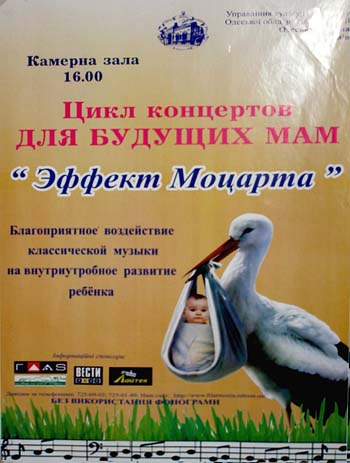 –ü―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β, ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ, –Μ―É―΅―à–Β ―Ä–Α―¹―²―ë―² –Κ―É–Κ―É―Ä―É–Ζ–Α –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄ –¥–Α―é―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à–Μ―è–≥–Β―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―è ―³–Α–±―Ä–Η–Κ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–≤―΄–Κ–Η–¥―΄―à–Β–Ι¬Μ, –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Κ–Μ–Ψ–Ω―΄ –Η ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α―é―² –Ϋ–Η ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Γ–≤–Β―²–Α.
–ü―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β, ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ, –Μ―É―΅―à–Β ―Ä–Α―¹―²―ë―² –Κ―É–Κ―É―Ä―É–Ζ–Α –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄ –¥–Α―é―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à–Μ―è–≥–Β―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―è ―³–Α–±―Ä–Η–Κ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–≤―΄–Κ–Η–¥―΄―à–Β–Ι¬Μ, –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Κ–Μ–Ψ–Ω―΄ –Η ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α―é―² –Ϋ–Η ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Γ–≤–Β―²–Α.
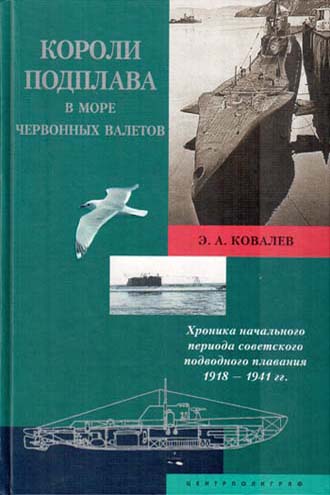
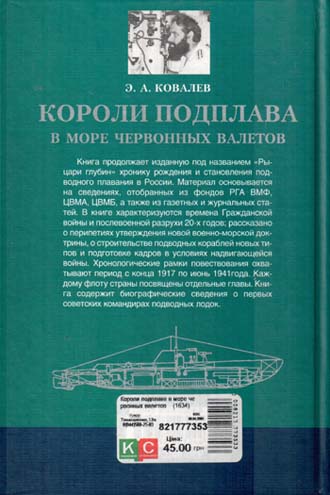
 –· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―ç―²–Η ―à―É―²–Κ–Η, –¥–Α –Η ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Α–¥–Α–Μ: –≤―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, –Φ–Ψ―ë –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤ –Η―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ-–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²: –Θ–Μ–Η―¹―¹, –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Α, –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –Δ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–±–Α–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Α―Ä–Κ–Ψ–Ι, –Η–Μ–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―΅–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ –Ζ–Α ―΅–Α–Β–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η–Ζ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ βÄ™ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―΅―²―΄ ―¹–Ψ ―à–Κ–Η–≤–Α–Φ–Η-―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Α–≥–Ψ–≤).
–· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―ç―²–Η ―à―É―²–Κ–Η, –¥–Α –Η ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Α–¥–Α–Μ: –≤―¹―ë –Ε–Β, –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ, –Φ–Ψ―ë –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤ –Η―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ-–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²: –Θ–Μ–Η―¹―¹, –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Α, –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –Δ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–±–Α–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Α―Ä–Κ–Ψ–Ι, –Η–Μ–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―΅–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ –Ζ–Α ―΅–Α–Β–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η–Ζ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ βÄ™ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―΅―²―΄ ―¹–Ψ ―à–Κ–Η–≤–Α–Φ–Η-―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Α–≥–Ψ–≤).

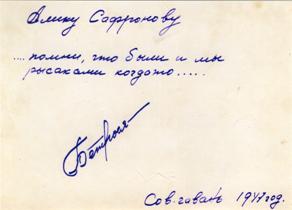
 –ê –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ –Μ–Α―²―É–Ϋ–Η, ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α–Φ―΄ –î–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄, ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η.
–ê –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ –Μ–Α―²―É–Ϋ–Η, ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α–Φ―΄ –î–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄, ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η.
 –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β). –ù–Α―à–Η, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η―Ö–≤–Α―²―¹―²–≤–Α: ¬Ϊ–‰―Ö –±―É–¥–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η¬Μ.
–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β). –ù–Α―à–Η, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η―Ö–≤–Α―²―¹―²–≤–Α: ¬Ϊ–‰―Ö –±―É–¥–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η¬Μ.
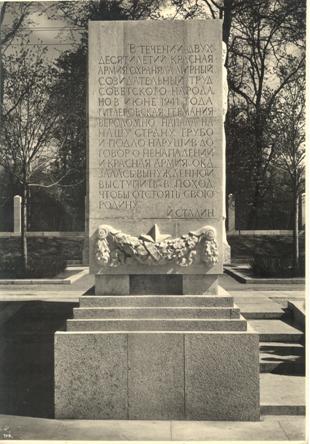
 –Δ–Α –Ε–Β ―Ä–Ψ―²–Α, ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄, –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η βÄ™ –ü–Α–Ω–Α –™–Β–Ι–Μ–Β―Ä –Η –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ βÄ™ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –Δ–û–£–£–€–Θ (–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α). –£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è: ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –Θ―¹―²―¨―è–Ϋ―Ü–Β–≤, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥―É―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥?¬Μ. –®–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Α ―²―Ä–Η –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α –≤–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ!
–Δ–Α –Ε–Β ―Ä–Ψ―²–Α, ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄, –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η βÄ™ –ü–Α–Ω–Α –™–Β–Ι–Μ–Β―Ä –Η –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ βÄ™ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –Δ–û–£–£–€–Θ (–Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α). –£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è: ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –Θ―¹―²―¨―è–Ϋ―Ü–Β–≤, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥―É―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥?¬Μ. –®–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Α ―²―Ä–Η –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α –≤–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ!
 –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Ζ–Α–¥–Η ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≤–Β―Ä–Ζ–Η–Μ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―ç―²–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Α: ¬Ϊ–· –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―΅―É!¬Μ –‰ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–ΜβÄΠ ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―² –Κ–Ψ–Ω–Β–Β–Κ. –‰ –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–ΑβÄΠ –ê –≤–Β–¥―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Η–Ω–Β―Ä-―¹―É–Ω–Β―Ä–Φ–Α―Ä–Κ–Β―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α–¥―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ, –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ, –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β ―¹ –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü―΄ –û–¥–Β―¹―¹―΄,βÄî ―è –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―ë 80-―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö: –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Β–¥―à–Η―Ö ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―ë–Κ¬Μ,βÄ™ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α―²―¨ –Π–Η―³―Ä–Β –Μ–Β―² –°–±–Η–Μ―è―Ä–Α. –ù–Α―΅–Α–≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Η –≥–¥–Β-―²–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–≤―É–Κ–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―΄ –ü–Α―Ö–Φ―É―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹―²–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α¬Μ
–î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Ζ–Α–¥–Η ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≤–Β―Ä–Ζ–Η–Μ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―ç―²–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Α: ¬Ϊ–· –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―΅―É!¬Μ –‰ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–ΜβÄΠ ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―² –Κ–Ψ–Ω–Β–Β–Κ. –‰ –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–ΑβÄΠ –ê –≤–Β–¥―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Η–Ω–Β―Ä-―¹―É–Ω–Β―Ä–Φ–Α―Ä–Κ–Β―²–Β βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α–¥―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ, –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ, –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β ―¹ –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü―΄ –û–¥–Β―¹―¹―΄,βÄî ―è –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―ë 80-―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö: –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Β–¥―à–Η―Ö ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―ë–Κ¬Μ,βÄ™ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α―²―¨ –Π–Η―³―Ä–Β –Μ–Β―² –°–±–Η–Μ―è―Ä–Α. –ù–Α―΅–Α–≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Η –≥–¥–Β-―²–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–≤―É–Κ–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―΄ –ü–Α―Ö–Φ―É―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹―²–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α¬Μ
 –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€―ç―²―Ä–Α –°―Ä–Η―è –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–≤–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –±―É–¥–Β―² –Η –Ψ –ö–Α―Ä–Β–Ϋ–Β. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ βÄî –ö–Α―Ä–Β–Ϋ –ü–Β―²–Ψ―è–Ϋ!
–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€―ç―²―Ä–Α –°―Ä–Η―è –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–≤–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –±―É–¥–Β―² –Η –Ψ –ö–Α―Ä–Β–Ϋ–Β. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ βÄî –ö–Α―Ä–Β–Ϋ –ü–Β―²–Ψ―è–Ϋ!
 –£–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Α –ê―Ä―²―é―à–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Β–Φ―É –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–Μ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ö–Ψ–Μ―΅–Α–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ. –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―². –£–Ψ―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
–£–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –ê–Ϋ–¥―Ä―é―à–Α –ê―Ä―²―é―à–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Β–Φ―É –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–Μ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ö–Ψ–Μ―΅–Α–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ. –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―². –£–Ψ―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ –Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
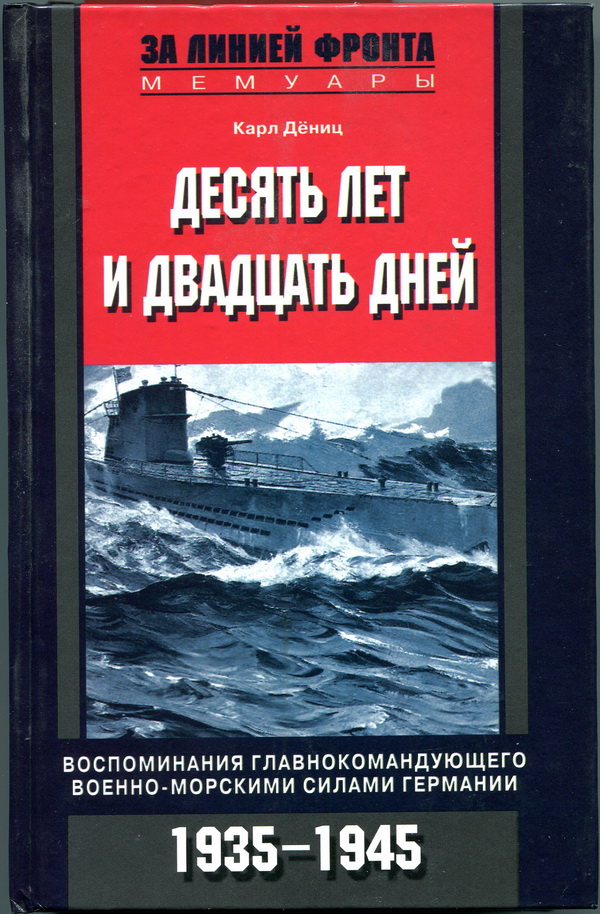 –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―¹―¹-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Μ–Α –î―ë–Ϋ–Η―Ü–Α –Η –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Ψ–Φ c–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –®–Α―É―Ä–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¨¬Μ, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ--―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α―Ö.
–ù–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―¹―¹-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Μ–Α –î―ë–Ϋ–Η―Ü–Α –Η –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Ψ–Φ c–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –®–Α―É―Ä–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¨¬Μ, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ--―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α―Ö.
 –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―â–Β–Β βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄βÄ™–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η.
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –≤ ―²–Β–Κ―¹―² –Η –≤–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ –≤ ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Α –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ (–Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤―¹―ë ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α, –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β). –‰ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β―¹―¨ βÄ™ –Κ ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?
–ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―â–Β–Β βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄βÄ™–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η.
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –≤ ―²–Β–Κ―¹―² –Η –≤–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ –≤ ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Α –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ (–Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤―¹―ë ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α, –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β). –‰ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β―¹―¨ βÄ™ –Κ ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?
 –€–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Φ–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Ϋ–Α, –≤–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―Ä―É―΅–Κ―É –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Ϋ–Β―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Β ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ―É, ―²–Ψ―² ―¹ ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ï―¹–Μ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤―¹―ë ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –¥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–¥―ë―² –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Κ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –±―É–¥–Β―² –Η –Ψ –Ϋ―ë–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β.
–€–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Φ–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Ϋ–Α, –≤–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―Ä―É―΅–Κ―É –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Ϋ–Β―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Β ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ―É, ―²–Ψ―² ―¹ ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ï―¹–Μ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤―¹―ë ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –¥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–¥―ë―² –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Κ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –±―É–¥–Β―² –Η –Ψ –Ϋ―ë–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β.
 –‰ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: "–ö ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?"
–‰ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: "–ö ―΅–Β–Φ―É –±―΄ ―ç―²–Ψ?"
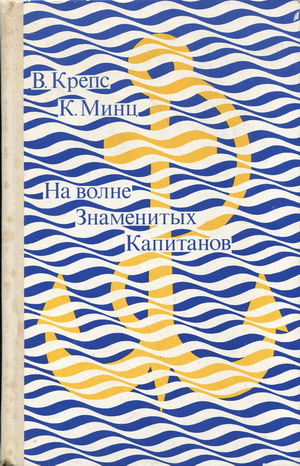 –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Μ―é–¥–Η, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―², –Ζ–Α―â–Η―â–Α–≤―à–Η–Β –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ¬§–Ϋ―΄–Β –Η –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤?! –· –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Β¬§―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ –Η–Φ―ë–Ϋ –Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α―Ö. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ε–Η―²―¨ –≤ –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η. –‰ –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨. –€–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–ΑβÄ™–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–Ι–¥―É―²―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –ö―Ä–Β–Ω―¹―É –Η –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―é –€–Η–Ϋ―Ü―É, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Ι –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―¨–Β―¹ –Η–Ζ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ (–‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ¬Μ), –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β-―Ä–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É―² –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –ê―Ö! –£ –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ―ë―²–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η!!!
–ù–Β–Μ―¨–Ζ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Μ―é–¥–Η, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―², –Ζ–Α―â–Η―â–Α–≤―à–Η–Β –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ¬§–Ϋ―΄–Β –Η –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤?! –· –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Β¬§―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ –Η–Φ―ë–Ϋ –Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α―Ö. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ε–Η―²―¨ –≤ –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η. –‰ –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨. –€–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–ΑβÄ™–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–Ι–¥―É―²―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –ö―Ä–Β–Ω―¹―É –Η –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―é –€–Η–Ϋ―Ü―É, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Ι –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―¨–Β―¹ –Η–Ζ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ (–‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ¬Μ), –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β-―Ä–Ψ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É―² –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –ê―Ö! –£ –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ―ë―²–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η!!!

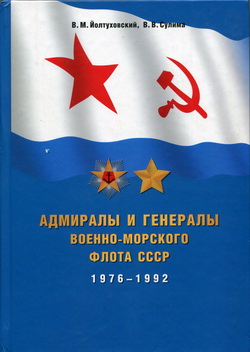 –‰–Φ–Β–Ϋ–Α, –Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –®―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, ―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ. –û–Ϋ–Η, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –Φ–Ϋ–Ψ―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰ ―è –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –≤ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ö―Ä–Β–Ω―¹–Α –Η –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―è –€–Η–Ϋ―Ü–Α (–¥–Α, –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―²–Ψ–Ε–Β) –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –±―΄ –Η–Φ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄..
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –£.–€. –ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –£.–£. –Γ―É–Μ–Η–Φ–Α –Β―¹―²―¨ –Η –Ψ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ 1-―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-255¬Μ ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Γ–Λ. –½–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥. –û–Κ―²―è–±―Ä. –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η¬Μ.
–‰–Φ–Β–Ϋ–Α, –Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –®―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, ―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ. –û–Ϋ–Η, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –Φ–Ϋ–Ψ―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰ ―è –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –≤ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ö―Ä–Β–Ω―¹–Α –Η –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―è –€–Η–Ϋ―Ü–Α (–¥–Α, –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―²–Ψ–Ε–Β) –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –±―΄ –Η–Φ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄..
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –£.–€. –ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –£.–£. –Γ―É–Μ–Η–Φ–Α –Β―¹―²―¨ –Η –Ψ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Β: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ 1-―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ö-255¬Μ ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Γ–Λ. –½–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥. –û–Κ―²―è–±―Ä. –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η¬Μ.
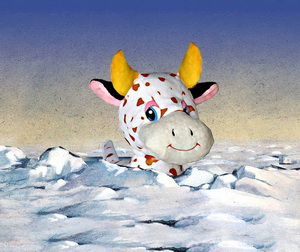 –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É.
–ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É.
 –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–ü. –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –î–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–Η–Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–Ζ–Α –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –£–Ψ―² –Η –ö–Α–Ϋ―Ü–Μ–Β―Ä –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –€–Β―Ä–Κ–Β–Μ―¨ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–ü. –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –î–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–Η–Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–Ζ–Α –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –£–Ψ―² –Η –ö–Α–Ϋ―Ü–Μ–Β―Ä –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –€–Β―Ä–Κ–Β–Μ―¨ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.
 –ù–Α ―ç―²–Η―Ö ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Η–Ζ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Γ–®–ê. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨!!! βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Α.
–ù–Α ―ç―²–Η―Ö ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Η–Ζ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Γ–®–ê. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨!!! βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Α.
 –ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Θ―é―Ä–≥–Β–Ϋ –£–Β–±–Β―Ä (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β) –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ζ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬ΪMidday¬Μ.
–ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Θ―é―Ä–≥–Β–Ϋ –£–Β–±–Β―Ä (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β) –≤ –Γ–Α–Ϋ-–î–Η–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ζ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬ΪMidday¬Μ.
 –ü–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Ε–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Β―², –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Η–Ζ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –™–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –™–Α–Μ–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –Η –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Μ–Ψ―Ä–¥ –±–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Μ―¨–¥-–™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α¬Μ βÄ™ ¬Ϊ–™–¥–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄ™ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ¬Μ.
–ü–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Ε–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Β―², –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Η–Ζ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –™–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –™–Α–Μ–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –Η –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Μ–Ψ―Ä–¥ –±–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Μ―¨–¥-–™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α¬Μ βÄ™ ¬Ϊ–™–¥–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄ™ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ¬Μ.
 –Ξ–ΞI –≤–Β–Κ. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –û–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ –Ϋ–Α –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –¥–Α, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Β ¬Ϊ–ë―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ–Α¬Μ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É―à―¨―é ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–Α.
–Ξ–ΞI –≤–Β–Κ. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –û–¥–Β―¹―¹–Η―²―΄ –Ϋ–Α –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –¥–Α, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Β ¬Ϊ–ë―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ–Α¬Μ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É―à―¨―é ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≠–Ι–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ–Α.
 –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―â–Β–Β ―ç―²–Ψ―² –Φ–Η―Ä, –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Η –¥–Β–≤–Η–Ζ–Α―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ê–¥–Α–Μ―¨–±–Β―Ä―²–Α –®–Ϋ–Β–Β: "–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―É–Φ–Α―é―² –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É..., –Ϋ–Ψ –Φ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ϋ–Η–Ζ―É". –≠―²–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―É–Ε –±–Β–Ζ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥. –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –≤ –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ–Β, –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –Φ―ç―Ä–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β - –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Β, –Α–Μ–Φ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –·–Κ―É―²–Η–Η -–Λ.–ê –®―²―΄―Ä–Ψ–≤, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Α–Φ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Β–≥–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―²―΄―Ä–Ψ–≤ - –Ω–Β–≤–Ψ–Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η. –ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α―Ö –ö–Η–Β–≤–Α –Η –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –î–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ϋ–Α―à –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ.–†. –™―Ä–Η–Ϋ–Β–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£.–ï.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –†–Α―³–Α–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –±–Β–Ζ –Ψ–±–Η–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: "–û–¥–Ψ–±―Ä―è–Β–Φ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Φ!".
–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―â–Β–Β ―ç―²–Ψ―² –Φ–Η―Ä, –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Η –¥–Β–≤–Η–Ζ–Α―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ê–¥–Α–Μ―¨–±–Β―Ä―²–Α –®–Ϋ–Β–Β: "–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―É–Φ–Α―é―² –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É..., –Ϋ–Ψ –Φ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ϋ–Η–Ζ―É". –≠―²–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―É–Ε –±–Β–Ζ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥. –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –≤ –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ–Β, –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –Φ―ç―Ä–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β - –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Β, –Α–Μ–Φ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –·–Κ―É―²–Η–Η -–Λ.–ê –®―²―΄―Ä–Ψ–≤, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Α–Φ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Β–≥–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –®―²―΄―Ä–Ψ–≤ - –Ω–Β–≤–Ψ–Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η. –ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α―Ö –ö–Η–Β–≤–Α –Η –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –î–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ϋ–Α―à –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ.–†. –™―Ä–Η–Ϋ–Β–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£.–ï.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –†–Α―³–Α–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –±–Β–Ζ –Ψ–±–Η–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: "–û–¥–Ψ–±―Ä―è–Β–Φ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Φ!".
 –≠―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Φ–Α–Φ–Α, –Ε–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α, –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α-–€–Α―²―¨, –û–¥–Β―¹―¹–Α-–€–Α–Φ–Α, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η―Ö –Η–Μ–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ―É–Ε―¹–Κ–Η―Ö –Φ―΄―²–Α―Ä―¹―²–≤.
–≠―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Φ–Α–Φ–Α, –Ε–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α, –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α-–€–Α―²―¨, –û–¥–Β―¹―¹–Α-–€–Α–Φ–Α, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η―Ö –Η–Μ–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ―É–Ε―¹–Κ–Η―Ö –Φ―΄―²–Α―Ä―¹―²–≤.
 –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ (―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Κ―É ¬Ϊ–≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄¬Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β―²), –Η―²–Α–Κ, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ϋ–Α –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Ψ–¥–Κ–Β –ö―É―Ä―¹–Κ (–ê–ü–¦ –ö-141). –ê –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η, ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–≤―è―²–Ψ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–ΨβÄ™–€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –Η―Ö –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Β–¥―Ä.
–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –û–¥–Β―¹―¹―΄ (―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Κ―É ¬Ϊ–≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄¬Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β―²), –Η―²–Α–Κ, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ϋ–Α –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Ψ–¥–Κ–Β –ö―É―Ä―¹–Κ (–ê–ü–¦ –ö-141). –ê –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η, ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–≤―è―²–Ψ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–ΨβÄ™–€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –Η―Ö –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Β–¥―Ä.

 –ö―Ä–Η―¹–Η–Μ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅,
–ö―Ä–Η―¹–Η–Μ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅, 
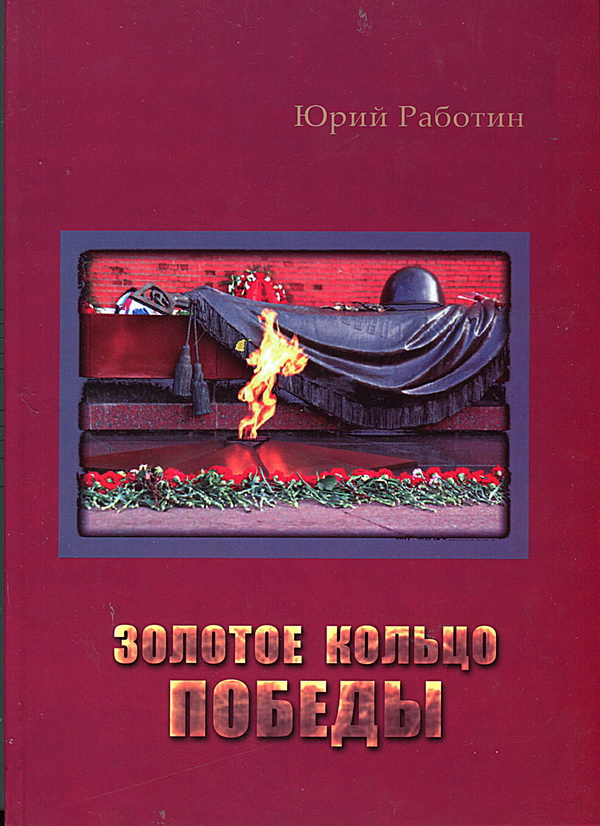 –‰―²–Α–Κ, –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –°―Ä–Η–Ι –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ, ―É―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ–±–Β–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ, –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –≤―¹―é ―Ü–Β–Ω―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Β―ë ―²–Α–Ι–Ϋ. –≠―²–Ψ –Η –Κ–Α―²–Α–Κ–Ψ–Φ–±―΄, –Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Μ–≥–Μ –Ω–Ψ―ç―²–Α –û–≤–Η–¥–Η―è –ù–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―â–Η–Ϋ–Β, –Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –û–¥–Β―¹―¹―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –î–Ε―É–Ζ–Β–Ω–Ω–Β –™–Α―Ä–Η–±–Α–Μ―¨–¥–Η, –≤–Ω–Η―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±―è –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –¥―É―Ö –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄, –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ-―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ βÄî –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –‰―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ–Κ.
–ê –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –ü―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ –†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ –≤―΄–≤–Β–Μ –Η–Ζ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤.
–‰―²–Α–Κ, –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –°―Ä–Η–Ι –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ, ―É―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ–±–Β–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ, –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –≤―¹―é ―Ü–Β–Ω―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β –Β―ë ―²–Α–Ι–Ϋ. –≠―²–Ψ –Η –Κ–Α―²–Α–Κ–Ψ–Φ–±―΄, –Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Μ–≥–Μ –Ω–Ψ―ç―²–Α –û–≤–Η–¥–Η―è –ù–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –û–¥–Β―¹―â–Η–Ϋ–Β, –Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –û–¥–Β―¹―¹―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –î–Ε―É–Ζ–Β–Ω–Ω–Β –™–Α―Ä–Η–±–Α–Μ―¨–¥–Η, –≤–Ω–Η―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±―è –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –¥―É―Ö –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄, –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ-―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ βÄî –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –‰―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ–Κ.
–ê –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –ü―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ –†–Α–±–Ψ―²–Η–Ϋ –≤―΄–≤–Β–Μ –Η–Ζ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤.
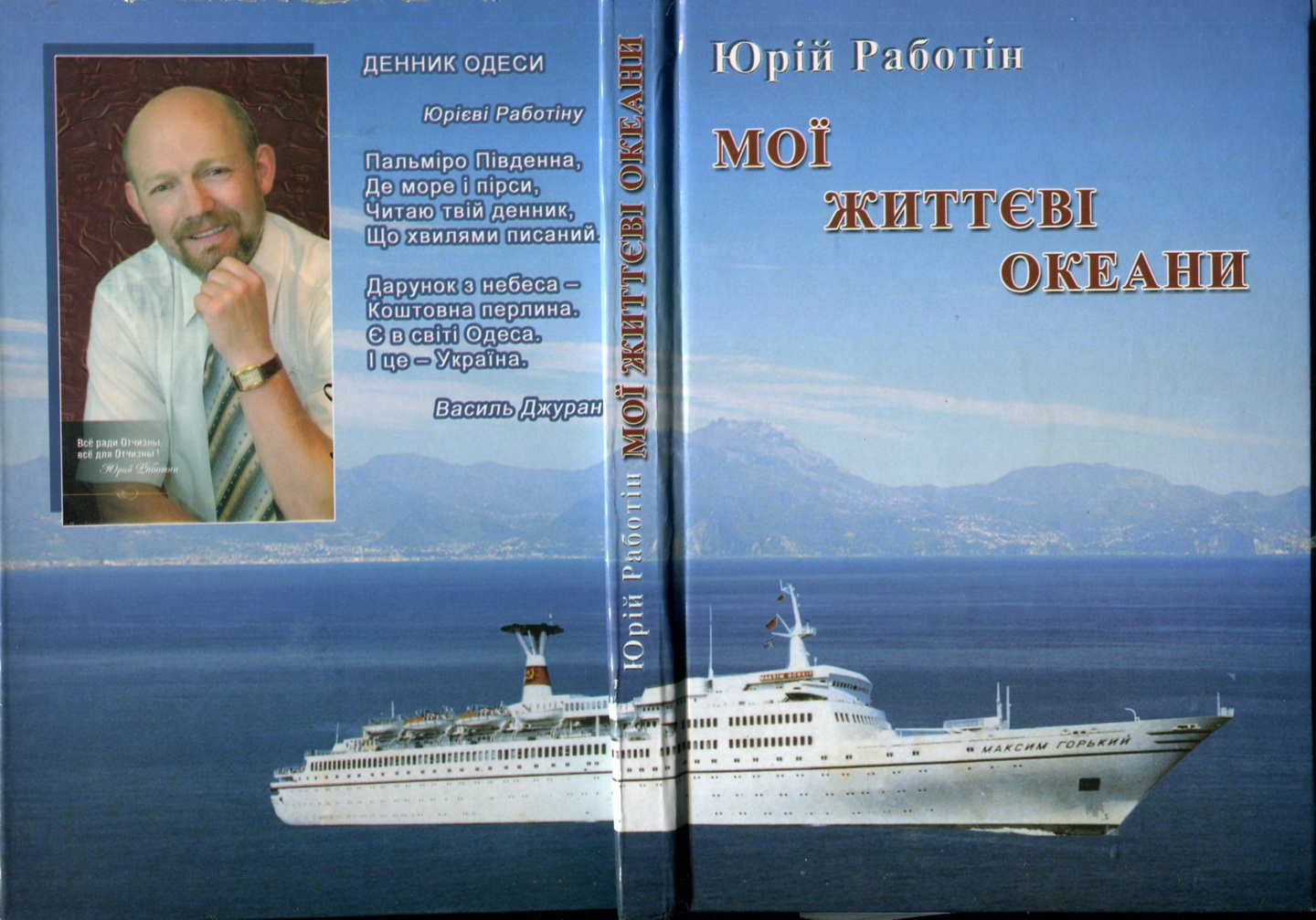
 –€–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –¥―è–¥–Β –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Β –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ. –ï–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Ε–Η–≤–Α―è –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–€–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –¥―è–¥–Β –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Β –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ. –ï–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Ε–Η–≤–Α―è –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
 –ï―¹–Μ–Η –£―΄, ―¹–Η–Β ―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Β, –Ϋ–Β ―³–Α―Ä–Η―¹–Β–Η, –Ϋ–Β –Ω―É―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η―²–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι.
–ï―¹–Μ–Η –£―΄, ―¹–Η–Β ―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Β, –Ϋ–Β ―³–Α―Ä–Η―¹–Β–Η, –Ϋ–Β –Ω―É―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η―²–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι.
 –€–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –≤ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―É–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―É–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Ψ–ΙβÄ™ ―¹–Α–Φ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Β―¹―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, βÄ™ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ζ–Ψ―Ä―¨–Κ–Α.
–≠―²–Ψ―² –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –≥–¥–Β ―΅–Β―¹―²–≤―É―é―² –≥–Ψ–Μ–Μ–Η–≤―É–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ–≤―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–ΙβÄΠ –Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –Κ–Η–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β.
–€–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –≤ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―É–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―É–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Ψ–ΙβÄ™ ―¹–Α–Φ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Β―¹―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, βÄ™ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ζ–Ψ―Ä―¨–Κ–Α.
–≠―²–Ψ―² –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –≥–¥–Β ―΅–Β―¹―²–≤―É―é―² –≥–Ψ–Μ–Μ–Η–≤―É–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤―ë–Ζ–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ–≤―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–ΙβÄΠ –Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –Κ–Η–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β.
 –Θ–Ε–Β ―¹ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Μ–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Ψ–Μ–Η –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â―ë–Ϋ –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄―²–Η―é.
–£ ―¹–≤–Ψ–Η –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –•–Β–Ϋ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
–Θ–Ε–Β ―¹ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Μ–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Ψ–Μ–Η –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â―ë–Ϋ –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄―²–Η―é.
–£ ―¹–≤–Ψ–Η –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –•–Β–Ϋ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
 –ü–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―ë–Φ―¹―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α–Φ, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä―΄, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²―΄, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η –Μ–Β―² –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –€–Β―¹―²–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Α βÄ™ –ü–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α ―É–Μ. –ü–Β–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–ê.–Λ–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Α. –€–Ψ–Ε–Β―² –Β―ë –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Δ–û–£–£–€–Θ. –ö–Α―³–Β –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –€–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –≤―΄–≤–Β―¹–Κ–Η: ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–½–Α–Κ―É―¹–Ψ―΅–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–ü–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è¬Μ. –†–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –Ω–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Η. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Γ–≤–Β―²–Κ–Α –Δ–Η―²–Ψ–≤ βÄ™ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –≤―¹–Β–Φ–Η, –Ϋ–Β –Α―³–Η―à–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Γ–≤–Β―²–Κ–Α,- –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―É―Ä―¹–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ê–≥–Α–±–Β–Κ¬Μ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Α, –Α ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–ΨβÄΠ, ―ç―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Α–Κ –≤―΄–Ω―¨–Β–Φ –Ε–Β –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β!¬Μ –î―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η, –Ζ–≤―è–Κ–Ϋ―É–≤ –≥―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹ –Ω–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―è–Φ–Η –Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ―è–Ε –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Γ–Α–Φ–Α –ü–Β–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―É–Ω–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –Δ–Α–Κ –≥―É―Ä―¨–±–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è. –ë–Μ–Α–≥–Ψ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨, –Α –≤ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ ¬Ϊ–±–Α–±―¨–Β–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ¬Μ - ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ!!! –û –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä―΄ –Ψ―΅–Β–Ι –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è¬Μ - ―¹–Α–Φ ―³–Α–Κ―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹–Α–Φ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è: –¥–Β―²–Η –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α.
–ü–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―ë–Φ―¹―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α–Φ, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä―΄, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²―΄, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η –Μ–Β―² –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –€–Β―¹―²–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Α βÄ™ –ü–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α ―É–Μ. –ü–Β–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–ê.–Λ–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Α. –€–Ψ–Ε–Β―² –Β―ë –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Δ–û–£–£–€–Θ. –ö–Α―³–Β –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –€–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –≤―΄–≤–Β―¹–Κ–Η: ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–½–Α–Κ―É―¹–Ψ―΅–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–ü–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è¬Μ. –†–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –Ω–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Η. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Γ–≤–Β―²–Κ–Α –Δ–Η―²–Ψ–≤ βÄ™ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –≤―¹–Β–Φ–Η, –Ϋ–Β –Α―³–Η―à–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. ¬Ϊ–†–Β–±―è―²–Α βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Γ–≤–Β―²–Κ–Α,- –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―É―Ä―¹–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ê–≥–Α–±–Β–Κ¬Μ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Α, –Α ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–ΨβÄΠ, ―ç―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Α–Κ –≤―΄–Ω―¨–Β–Φ –Ε–Β –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β!¬Μ –î―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η, –Ζ–≤―è–Κ–Ϋ―É–≤ –≥―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹ –Ω–Β–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―è–Φ–Η –Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ―è–Ε –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Γ–Α–Φ–Α –ü–Β–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―É–Ω–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –Δ–Α–Κ –≥―É―Ä―¨–±–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è. –ë–Μ–Α–≥–Ψ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨, –Α –≤ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ ¬Ϊ–±–Α–±―¨–Β–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ¬Μ - ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ!!! –û –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä―΄ –Ψ―΅–Β–Ι –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è¬Μ - ―¹–Α–Φ ―³–Α–Κ―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹–Α–Φ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è: –¥–Β―²–Η –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α.
 –Θ–Ε–Β –≤ ―à―²–Α–±–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –î–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Η ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η 245-–≥–Ψ –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –£–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ –Η –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä. –ï―¹–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β, –Ψ–Ϋ ―¹ –≥–Η―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α βÄ™ –Ψ–Ϋ –≤ –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ–Β –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Β–Ω–Β―Ä―²―É–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ψ–Κ―É–¥–Ε–Α–≤ –Η –≤―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η―Ö.
–Θ–Ε–Β –≤ ―à―²–Α–±–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –î–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Η ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Α¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η 245-–≥–Ψ –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –£–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ –Η –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä. –ï―¹–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β, –Ψ–Ϋ ―¹ –≥–Η―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α βÄ™ –Ψ–Ϋ –≤ –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ–Β –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Β–Ω–Β―Ä―²―É–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ψ–Κ―É–¥–Ε–Α–≤ –Η –≤―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η―Ö.
 –Θ–Ε–Β –≤ –®–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β (–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è), –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι –€–Η―à–Β–Μ―è –¦–Β–≥―Ä–Α–Ϋ–Α, (–û―²–Κ―Ä–Ψ–Ι―²–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β!)
–Ϋ–Α 44-–Φ (2005 –≥.) –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Ϋ―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η, –Φ–Ψ―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Β–Μ–Α –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―é, –Α –Φ―É–Ϋ–Η―Ü–Η–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Μ―¨-–±–Ψ–≥–Η¬Μ –Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ―É ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―é –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η.
–Θ–Ε–Β –≤ –®–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β (–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è), –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι –€–Η―à–Β–Μ―è –¦–Β–≥―Ä–Α–Ϋ–Α, (–û―²–Κ―Ä–Ψ–Ι―²–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β!)
–Ϋ–Α 44-–Φ (2005 –≥.) –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Ϋ―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η, –Φ–Ψ―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Β–Μ–Α –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―é, –Α –Φ―É–Ϋ–Η―Ü–Η–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Μ―¨-–±–Ψ–≥–Η¬Μ –Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ―É ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―é –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η.  –ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Μ–Α―à –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ: –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ë–Α―Ä–Α–±–Α―à–Α –Η –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Η –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Μ–Η―Ö–Ψ –Ψ―²–Ω–Μ―è―¹―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β–Ζ–≥–Η–Ϋ–Κ―É.
–ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Μ–Α―à –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ: –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ë–Α―Ä–Α–±–Α―à–Α –Η –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Η –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Μ–Η―Ö–Ψ –Ψ―²–Ω–Μ―è―¹―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β–Ζ–≥–Η–Ϋ–Κ―É.
 –£ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―â―É–Κ–Η¬Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―² –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ü–Β―²―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Β–Μ―¨―è–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω–Ψ–Φ –Ε–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–©-403¬Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
–£ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―â―É–Κ–Η¬Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―² –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ü–Β―²―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Β–Μ―¨―è–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω–Ψ–Φ –Ε–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ ¬Ϊ–©-403¬Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
 –£ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Γ–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η–¥―ë―² –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α: –Κ–Ψ–Ω–Α―é―² –Κ–Ψ―²–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ―è―² –Η ―É–≤–Ψ–Ζ―è―². –‰–¥―ë―² ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ
–ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Η <–Ζ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä> –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –£.–ü.–†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η: ―¹–Ψ ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –ö–Ψ–Ω―¨―ë–≤―΄–Φ, –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Η–Φ–Ψ–Φ, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ 216 –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Η–Κ–Ψ–Φ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α¬Μ –£–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –Η –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û―²–¥–Β–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –™–Ψ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α.
–£ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Γ–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η–¥―ë―² –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α: –Κ–Ψ–Ω–Α―é―² –Κ–Ψ―²–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ―è―² –Η ―É–≤–Ψ–Ζ―è―². –‰–¥―ë―² ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ
–ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―é –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –î–Ε–Β–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Η <–Ζ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä> –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –£.–ü.–†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η: ―¹–Ψ ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –ö–Ψ–Ω―¨―ë–≤―΄–Φ, –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Η–Φ–Ψ–Φ, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ 216 –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Η–Κ–Ψ–Φ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α¬Μ –£–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –Η –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û―²–¥–Β–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –™–Ψ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α.
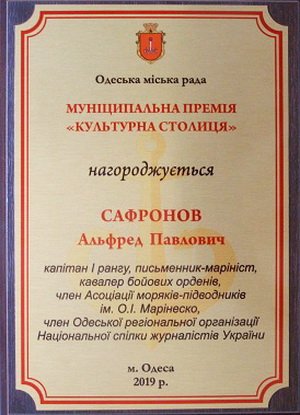
 –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –î–Α–Ε–Β –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥–Α –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β ―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ―â―É―â–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β.
–½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –î–Α–Ε–Β –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥–Α –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β ―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ―â―É―â–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β. –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ―É–Ε–±―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α. –· –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –£―΄―¹―à–Β–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β.
–€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ―É–Ε–±―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α. –· –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –£―΄―¹―à–Β–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β.
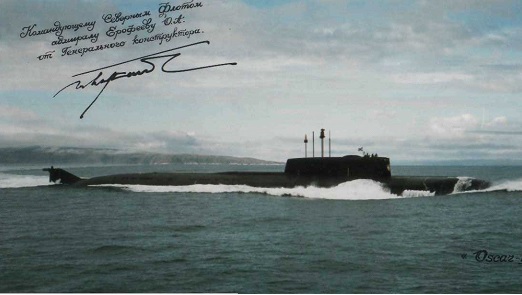


 –ù–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²―Ü―΄-–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ¬Ϊ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –¥―΄―Ä–Κ―É –Ψ―² –±―É–±–Μ–Η–Κ–Α –Μ―é–¥―è–Φ, ―¹–Α–Φ–Η–Φ, –Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –±―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ. (–ü–Ψ–Ω–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ω―É–Μ–Α –Η–Ζ –Κ/―³ ¬Ϊ–Γ–≤–Α–¥―¨–±–Α –≤ –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β¬Μ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –£–Ψ–¥―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –≤ –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Φ–Α–Ι–Ϋ–Ψ¬Μ: ¬Ϊ–· ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ψ–±–¥–Β–Μ–Η–Μ?¬Μ). –‰–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Η –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η βÄ™ –≤ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―²―΄―¹―è―΅, –≤ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –¥–Ψ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ–Α. –ß―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² –Γ–€–‰. –£–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!!! βÄ™ –±―΄–≤―à–Η–Β –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–Ϋ–Ζ―΄. –ë–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η–Ζ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö, –Ζ–Α―¹–Β–Κ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―² –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –‰–Φ –±―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Γ.–ù. ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –¥–Ψ―¹―¨–Β. –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α. –¦–Α―É―Ä–Β–Α―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Η–Φ. –€.–£. –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α –ê–ù –Γ–Γ–Γ–†. –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Γ–Γ–†. –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–€–ù), ―΅–Μ–Β–Ϋ-–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–ù), –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–ï–ù). 1979 - 1986 –≥–≥. - –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –Γ 1986 –≥–Ψ–¥–Α - –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –€–ù–Δ–ö (–€–Β–Ε–Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹) "–€–Η–Κ―Ä–Ψ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α". –£–Β–Ζ–¥–Β, –≥–¥–Β –Γ–≤―è―²–Ψ―¹–Μ–Α–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―΄. –Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Α βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü–Α; –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹–Β―¹―²―Ä–Α βÄ™ –¥–≤–Β; –≤―Ä–Α―΅ βÄ™ ―²―Ä–Η; –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α βÄ™ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β; ―¹–Α–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä βÄ™ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –Β―¹–Μ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ –Β―ë ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Β.
–ù–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²―Ü―΄-–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ¬Ϊ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –¥―΄―Ä–Κ―É –Ψ―² –±―É–±–Μ–Η–Κ–Α –Μ―é–¥―è–Φ, ―¹–Α–Φ–Η–Φ, –Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –±―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ. (–ü–Ψ–Ω–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ω―É–Μ–Α –Η–Ζ –Κ/―³ ¬Ϊ–Γ–≤–Α–¥―¨–±–Α –≤ –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β¬Μ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –£–Ψ–¥―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –≤ –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Φ–Α–Ι–Ϋ–Ψ¬Μ: ¬Ϊ–· ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ψ–±–¥–Β–Μ–Η–Μ?¬Μ). –‰–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Η –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η βÄ™ –≤ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―²―΄―¹―è―΅, –≤ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –¥–Ψ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ–Α. –ß―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² –Γ–€–‰. –£–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!!! βÄ™ –±―΄–≤―à–Η–Β –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–Ϋ–Ζ―΄. –ë–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η–Ζ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö, –Ζ–Α―¹–Β–Κ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―² –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –‰–Φ –±―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Γ.–ù. ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –¥–Ψ―¹―¨–Β. –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α. –¦–Α―É―Ä–Β–Α―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Η–Φ. –€.–£. –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α –ê–ù –Γ–Γ–Γ–†. –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Γ–Γ–†. –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–€–ù), ―΅–Μ–Β–Ϋ-–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–ù), –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–†–ê–ï–ù). 1979 - 1986 –≥–≥. - –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –Γ 1986 –≥–Ψ–¥–Α - –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –€–ù–Δ–ö (–€–Β–Ε–Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹) "–€–Η–Κ―Ä–Ψ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α". –£–Β–Ζ–¥–Β, –≥–¥–Β –Γ–≤―è―²–Ψ―¹–Μ–Α–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―΄. –Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Α βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü–Α; –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹–Β―¹―²―Ä–Α βÄ™ –¥–≤–Β; –≤―Ä–Α―΅ βÄ™ ―²―Ä–Η; –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α βÄ™ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β; ―¹–Α–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä βÄ™ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –Β―¹–Μ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ –Β―ë ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Β.


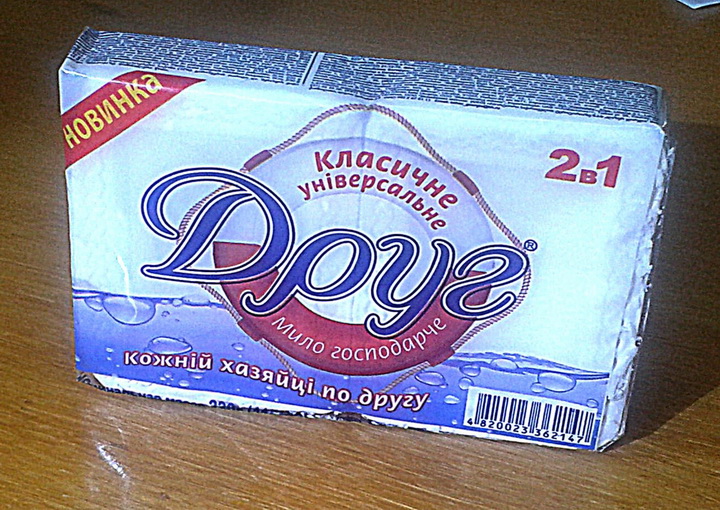 –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–· –± –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ.
–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η ―ç―²–Α, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à―É –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―² –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α, –Ψ―²―â–Κ―Ä―è–±–Ψ―²―¨ –≥―Ä―è–Ζ―¨ –Η –Ψ―²–Φ―΄―²―¨ –Β―ë ―¹ –Φ―΄–Μ–Ψ–Φ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Φ―΄―¹–Μ―é, ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α.
–€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–· –± –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ.
–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η ―ç―²–Α, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à―É –ü–Μ–Α–Ϋ–Β―²―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―² –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α, –Ψ―²―â–Κ―Ä―è–±–Ψ―²―¨ –≥―Ä―è–Ζ―¨ –Η –Ψ―²–Φ―΄―²―¨ –Β―ë ―¹ –Φ―΄–Μ–Ψ–Φ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Φ―΄―¹–Μ―é, ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –ù–Ψ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α.
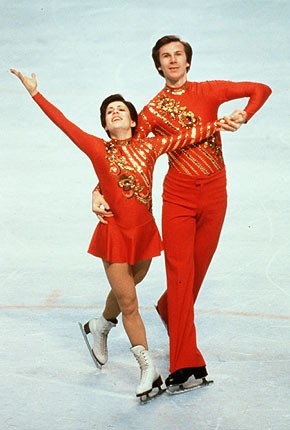
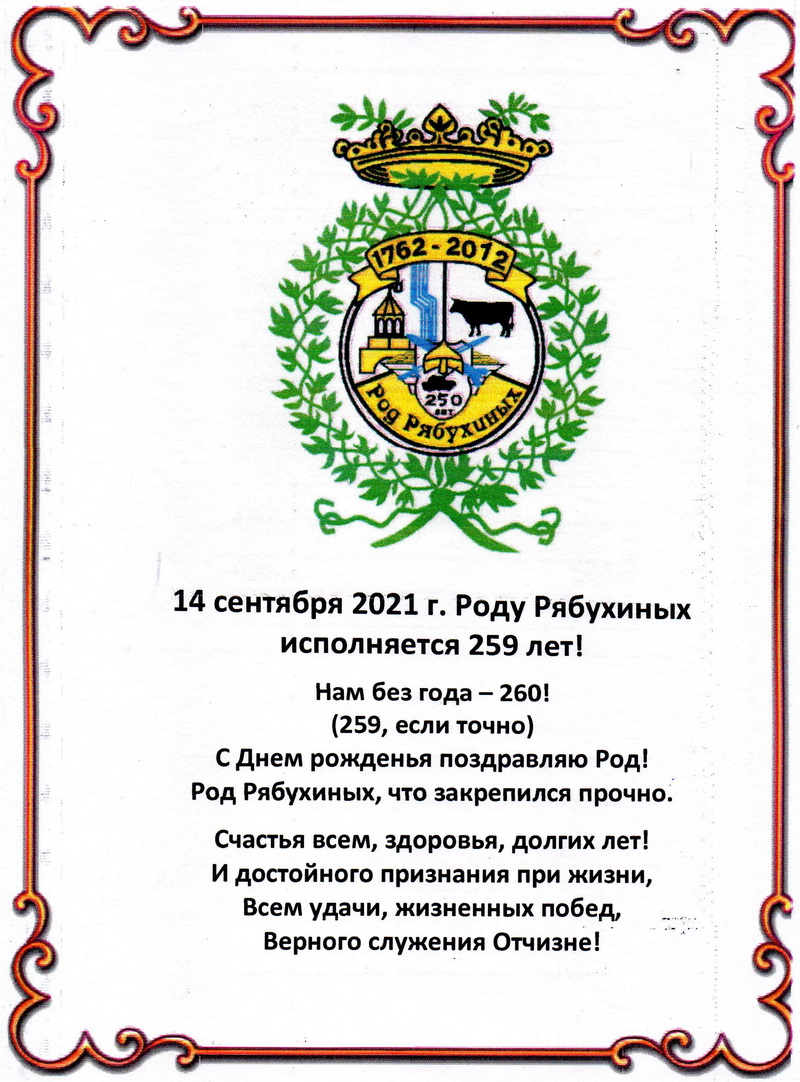



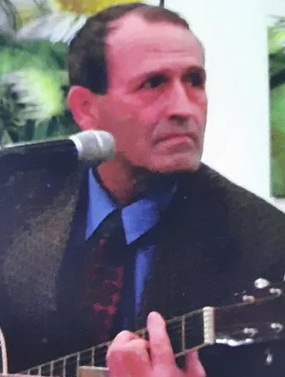
 –™–Η–Φ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ 3 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2021 –≥. –Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―΅–Α―²–Β –≤ –£–Α―Ü–Α–Ω–Β –≤ 08.38
–™–Η–Φ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ 3 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2021 –≥. –Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―΅–Α―²–Β –≤ –£–Α―Ü–Α–Ω–Β –≤ 08.38

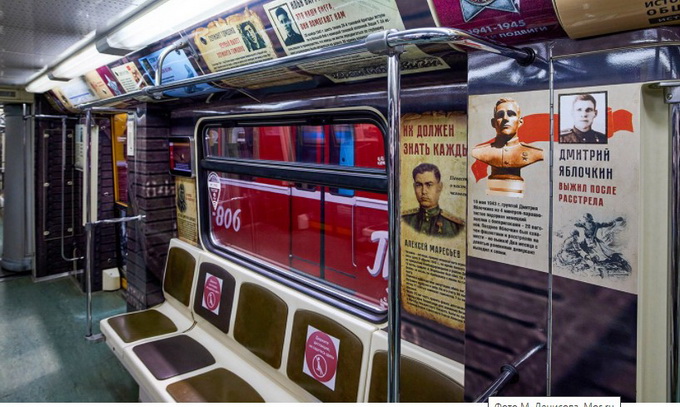

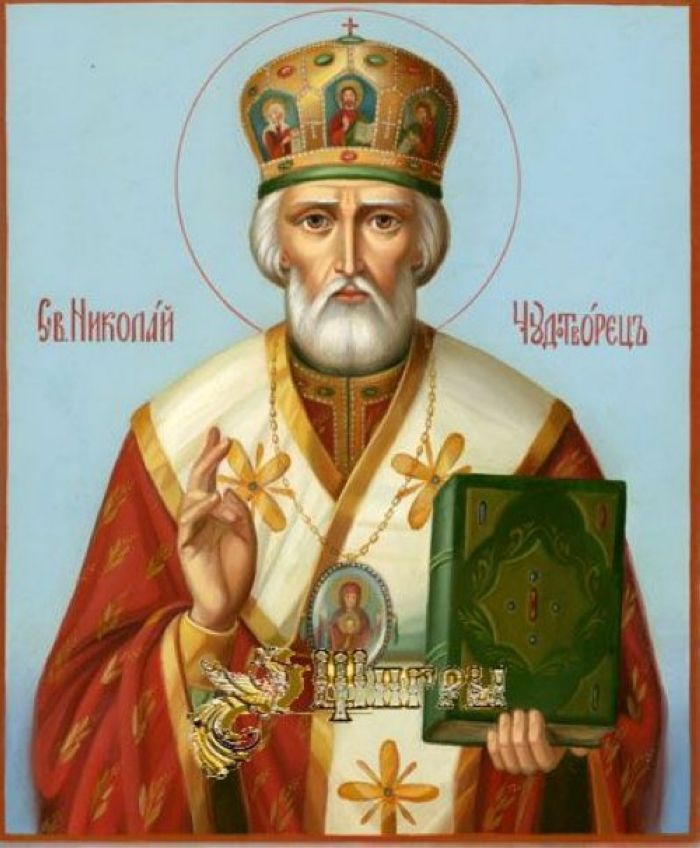 βÄî –Δ–Α–Κ-―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, - –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ï–≥–Ψ―Ä –€–Η―²―Ä–Η―΅ –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―É―é –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ―É, - –ë–Ψ–≥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―Ä–Β―à–Α―²―¨―¹―è, –≥–Μ―É–Ω–Α―è ―²–≤–Ψ―è –±–Α―à–Κ–Α, ―²–Α–Κ ―²–≤–Ψ―é ―²–Α–Κ! –ê ―²―΄, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ, –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―΅―¨, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Β―â–Β –Η –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―², - –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ, ―É―²–Β―à–Α―è, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, ―¹–Α–Φ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―¨–Β. –‰ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Μ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–≤―à–Β–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨.
βÄî –Δ–Α–Κ-―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, - –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ï–≥–Ψ―Ä –€–Η―²―Ä–Η―΅ –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―É―é –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ―É, - –ë–Ψ–≥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―Ä–Β―à–Α―²―¨―¹―è, –≥–Μ―É–Ω–Α―è ―²–≤–Ψ―è –±–Α―à–Κ–Α, ―²–Α–Κ ―²–≤–Ψ―é ―²–Α–Κ! –ê ―²―΄, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ, –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―΅―¨, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Β―â–Β –Η –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―², - –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ, ―É―²–Β―à–Α―è, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, ―¹–Α–Φ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―¨–Β. –‰ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Μ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–≤―à–Β–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨.